Всю войну у немцев пробыла, за это не жаловали
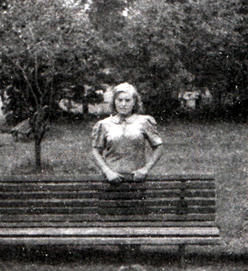
Л. А. Турзина (Егорова)
Я родилась в Саблино в 1926 году в бедной семье: папа работал на железной дороге, мама болела, четверо детей. Булки в глаза не видели, хлеб — по выдаче, сахар — вприглядку. Спасали корова и огород: что посадим, то и съедим. Жили в казарме, потом купили у государства дом на снос и построились на улице Кагановича, что по дороге на Тосно.
В Саблино был свой поселковый совет, две больницы, три школы. Перед войной я окончила 4 класса, больше учиться не пришлось.
Началась война, и очень скоро фронт приблизился к нам вплотную. Папа пришел с ночной смены, по радио передают: «Немцев отогнали за Любань». На самом деле наши отступили и ни линию, ни Московское шоссе не взорвали. Жители попрятались в пещерах.
Немцы приехали машинами по шоссе и заняли Саблино без единого выстрела. Под угрозой обстрела велели покинуть пещеры и вернуться в дома. После 17 часов на улицу выходить запрещалось. Полицейские ходили по домам и проверяли, все ли на месте.
В нашем доме две комнаты заняли немцы, в третьей жили мы. Среди немцев оказался штаб-артц — главный врач, хороший человек, оказывавший помощь всем нуждающимся. Соседскому мальчишке осколком рассекло губу. Врач зашил рану, угостил шоколадом. Мальчишки на улице потом говорили: «Пошли к Егоровым, там врач шоколадки раздает!»
Над Саблино сбили два наших самолета. Летчики вели себя мужественно, и штаб-артц, придя домой, откровенно ими восторгался: «Со временем, — говорил он, — машины станут лучше, а таких людей больше не будет…»
Недалеко от нашего дома, на улице Юного Ленинца, находился лагерь русских военнопленных. Их было там около 25 тысяч. Они очень голодали, съели всю траву на территории лагеря. Иногда удавалось перебросить им через забор что-нибудь из съестного. Часовой, если замечал, начинал ругаться, грозить. По вечерам из лагеря доносились заунывные песни: «Ты не вейся, черный ворон, над моею головой…» Многие умирали, их хоронили там же. Сейчас кладбище застроено новыми домами, и я не могу отделаться от мысли, что стоят они на покойниках…
Молодежь с 15 лет ежедневно гоняли на работу: засыпать ямы на дорогах, валить лес. Командовал нами немец Хуго, лишившийся на фронте глаза. Однажды в лесу мы наткнулись на трупы расстрелянных мужчин и женщин. Я упала в обморок, Хуго отвел меня в сторону.
Часто людей расстреливали без всякого суда. Почуют, что от человека дымом пахнет, значит — партизан, и уничтожают.
Из Никольского приходила Валя-разведчица. Ее многие знали, но молчали. А один человек по прозвищу Беглый, работавший у немцев, донес, и Валю расстреляли. Еще была партизанка Зина с Сиверской. Она приходила к своей матери-стрелочнице. Ее предала соседка, стремившаяся завладеть их квартирой. Зина успела уйти, а мать расстреляли и сбросили в ров.
С едой становилось все хуже. Жители тайком ходили к Поповке на колхозные поля за мерзлой картошкой и турнепсом. Работающим давали в день по литру баланды и тонюсенькому, как газета, ломтику хлеба (буханка делилась на 12 человек). На каждую корову был налог: 120 литров молока в год. Сколько раз немцы забирали у нас корову! Но мы налог платили и жаловались коменданту — корову возвращали. Комендант брал у нас по 2 литра молока и отдавал детям: в поселке было 30 беспризорников. Их кормили с кухни, потом куда-то отправили.
Комендатура размещалась на Графском шоссе, где почта. Переводчиком работал инженер Ижорского завода по прозвищу Шляпа. На улицах расклеивались объявления с предложением ехать на работу в Германию. Некоторые завербовались и уехали.
Папа топил немцам баню и сторожил сарай, в котором хранились продукты. Однажды туда забрались подростки во главе с Геной Хитриковым, порезали мешки и украли рис. Их всех арестовали, а папе дали 25 шомполов. Били русские полицейские.
В другой раз он попался на листовках: ходил в лес по грибы и принес оттуда наши листовки на немецком языке. В доме устроили обыск, нашли граммофон и комсомольские частушки. Папу забрали в комендатуру. Он знал, что в лесу работали немцы-штрафники и схитрил: «Я для вас лучше сделал, собрал, чтобы солдаты не читали». Однажды папа увидел в лесу нашего мертвого летчика. Он сидел, прислонившись к дереву, а к стволу кнопками были приколоты его документы. Папа похоронил летчика, а документы принес домой. После войны он сдал их в военкомат, откуда сообщили родным погибшего. С юга приезжала его мать. Летчика откопали, мать узнала его по домашним шерстяным носкам. Летчика перезахоронили на саблинском кладбище.
Меня послали стирать белье в прачечную, где я работала на пару со стариком-немцем. Когда мы перед стиркой вытряхивали солдатское белье, вши с него сыпались, как свинцовый дождь.
В конце декабря 1942 года немцы стали угонять жителей Саблино на запад. Посадили всех в грузовики и повезли в сторону Лисино. Отец с коровой пошел пешком. Мы оглядывались назад и видели над своей улицей, пролегавшей вдоль железной дороги, зарево пожара (потом узнали, что сгорел и наш дом).
Перед Вырицей я увидела отца, бредущего с коровой по обочине. Но машины шли в три ряда, не останавливаясь. Немцы даже не подбирали своих раненых, а нас везли. За Сиверской на колонну напали партизаны, но отбить нас не смогли.
Ехали до Пскова без остановок. Все это время я не мочилась, и старый немец, с которым я работала в прачечной, протянул мне свой котелок. Я не посмела им воспользоваться.
Через Эстонию нас привезли в Латвию. Здесь я убежала из прачечной к латышам. Хозяева — учителя — имели 9 гектаров земли, трех лошадей, восемнадцать коров, трактор «Сталинец», трех работников и старушку-прислугу. Вставали в 5 утра, ложились в 12. Пахали, боронили, выполняли все хозяйственные работы за еду.
Осенью 1943 года немцы приказали латышам сдать всех русских работников. Желающим предложили работу в немецком госпитале в г. Вольмере. Я согласилась. Меня взяли санитаркой в хирургию. Я мыла полы, носила в кочегарку отрезанные руки, ноги… В кочегарке работал русский военнопленный Андрей. Сестрами работали немки. С едой у них уже было неважно и кое-что из продуктов до раненых не доходило, оседая у кладовщиков и сестер.
Немецкие войска отступали. Вслед за ними перемещался госпиталь. Размещались в домах. Только расселимся, как приказ — свертываться. В г. Виндаве нас погрузили на пароход: раненых, персонал, лошадей, коров. Когда плыли мимо Либавы, в пароход попала советская торпеда. Пароход стал тонуть, и мы по трапу перетаскивали раненых на другое судно.
Привезли в Данциг, где прошли санобработку. Тут я заметила, что страх, пережитый в море, не прошел даром: я поседела. Пока не развернулся госпиталь, русские (нас было 100 человек) жили в доме и ходили грузить снаряды в корзины. Дальше была Германия, город Бадшандау. Госпиталь развернулся в горах, где сильно бомбили. Главврач подорвался на мине вместе с машиной. Русских и имущество госпиталя погрузили в эшелон, привезли к Эльбе. Охрана разбежалась.
Запомнились большая река, крутой мост через нее. На этой стороне — американцы, на другой — русские. На мосту надпись: «Заминировано!» Но мы, шестеро русских из госпиталя, все же пошли через мост и перебрались благополучно. Наши солдаты накормили нас и подарили по велосипеду. И мы поехали по Германии, спрашивая у немцев дорогу в Россию. Городов избегали: не хотелось попадать в наши комендатуры, где наверняка задержат и будут долго проверять. А нам так хотелось поскорее домой! Я надеялась, что мама уже дома и послала ей из Германии письмо: «Еду из Германии на велосипеде!» Как ни удивительно, но она его получила.
В Бреслау мы зашли в бывший концлагерь и с ужасом увидели там кучи обгорелых человеческих костей: так фашисты расправились с узниками.
В конце концов, мы доехали до Перемышля. Здесь нас задержали, отобрали велосипеды и оставили восстанавливать мост. Спустя месяц я получила билет на поезд Львов—Брянск—Вязьма—Малая Вишера—Ленинград. Когда подъезжали к Саблино, проводница стала выталкивать меня из вагона, а я смотрю на пустынное черное поле и говорю: «Это не Саблино…»
Знакомых улиц — Школьной, Кагановича — больше не существовало, вместо домов — одни головешки.
А как поступили с людьми? У всех молодых отобрали паспорта и отправили на торф. Меня выручил Борис Михайлович Извеков — начальник участка на железной дороге, где отец проработал 50 лет. Он «отбил» меня в бюро распределения молодежи и взял на работу в колесный цех 8-го участка. Работа тяжелая, грязная, брезентовые юбка и кителек засаливались, будто лакированные. Но и там след плена тянулся за мной. «У тебя репутация худая, — говорил Борис Михайлович. — Была в Германии… Не дай бог, брак — засудят. Надо вступать в комсомол».
Помог мне вступить в комсомол, и я проработала в цехе до 1950 года, пока домкратом мне не раздробило пальцы. Поправилась, пошла на фабрику гидроваты, потом на пилораму, последние 15 лет проработала кочегаром на Наволочной. Не отказывалась ни от какой работы: ведь всю войну у немцев пробыла, за это не жаловали.
Источник: За блокадным кольцом : воспоминания / Автор-составитель И.А. Иванова. – СПб.: ИПК «Вести», 2007.с. 295-298.









Александр
Я родился в Саблино!
05.05.2017 в 21:39