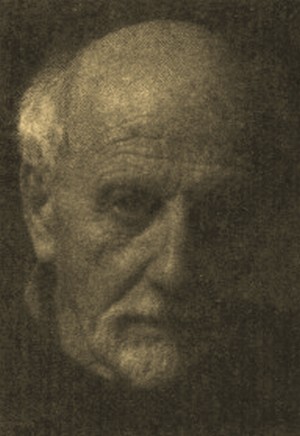Манящая свобода и военное время
Сорок первый год на инвалидном лагпункте Адак заключенные встречали с надеждой: близился к концу пятилетний срок у осужденных Особым совещанием в тридцать шестом году; тогда этот срок был самым ходовым, и именно эти люди составляли здесь подавляющее большинство.
Нелегко дались эти годы, многие навечно легли в неласковую северную землю — кто на стройке железной дороги, кто на шахтах Воркуты, кто на бесчисленных лесзаговских лагпунктах. Да и здесь, на Адаке, на обширном кладбище рядом с зоной, именуемом в просторечии «на горке», в неухоженных могилах покоилось немало умерших от непосильной работы и постоянного недоедания: туберкулезники, пеллагрики и прочие-прочие…
Лагерь многому научил, по крайней мере, тех, кто способен был научиться. Суровая была эта наука, приходилось отбрасывать многие иллюзии, которые на воле вколачивала в наши головы мощная пропагандистская машина. Здесь, в лагере, в наше сознание прочно вошло понятие о Стране Советов как о большом лагере, и само словосочетание «Большой лагерь» поминалось здесь куда чаще, чем официальное «Советский Союз». Почти все понимали, что и после лагеря человек, отбывший срок по 58-й статье, неминуемо окажется в положении неугодного и вечно подозреваемого, что в родные места, особенно в большие города, жить не пустят… и все же…
На воле, какая она там ни есть, все же не будет опостылевшей зоны с поверками, разводом, выводом на работу строем под конвоем, ночными шмонами и прочими прелестями лагерной жизни. А главное, там нас ждали родные, близкие люди, которые все эти годы жили той же надеждой, что и мы.
Зимой, а особенно в первые теплые дни сорок первого года, понемногу, а потом все больше стали вызывать на освобождение из «набора» тридцать шестого года. Казалось, что и мне, взятому в ночь с первого на второе апреля, остается еще немного ждать.
Почти три года я провел на Адаке, как-то обжился здесь, с моей категорией инвалидности мне не грозила опасность попасть на этап, из дома регулярно, хоть и не часто (задерживала цензура) приходили письма, иногда и посылки. А ведь сколько раз за эти годы я бывал на краю гибели! Обошлось… Надо было набраться сил и терпения и ждать. Осталось немного…
Все надежды рухнули ранним утром 22 июня. На кирпичный завод, где мы за все эти годы не знали подконвойной работы, а охрану составлял один-единственный стрелок, внезапно нагрянула целая команда вохры. Нас выгнали из бараков, заставили построиться, началась поименная поверка. Сразу бросилась в глаза необычная замкнутость стрелков. В обычной обстановке они здесь, на Адаке, вели себя спокойно и, за исключением узколицего коми Хозяинова, ни к кому не придирались.
Ясно было, что произошло нечто необычайное. «В побег, что ли, кто ушел с головного лагпункта?» — это была первая мелькнувшая в голове мысль. За четыре с лишним года, с тех пор как был создан лагпункт Адак, побегов здесь не бывало. Да и кто из инвалидов-доходяг решился бы на побег за много тысяч километров от центральной России, через необъятные леса и болота этой гиблой «комической республики», как здесь именовали Коми АССР?
Недолго длилось мое недоумение. Оказавшийся рядом со мной в строю начальник завода немец-меннонит Берг, бледный, растерянный, утративший свою обычную невозмутимость, шепнул на ухо: «Война… С Германией…» Я остолбенел… Ну и ну! Как обухом по голове… Было чему удивляться!
Из доходивших до нас газет можно было заключить, что именно с Германией отношения у нас самые что ни на есть наилучшие. В статьях центральной прессы проглядывало нескрываемое удовлетворение успехами гитлеровской армии в войне с западными державами. Доходили слухи об эшелонах с продовольствием, непрерывно идущих от нас в Германию. Отблагодарили…
С началом войны режим на лагпункте резко ужесточился. Особенно тяжелым он был в первые месяцы. Зачитали приказ — отменялось освобождение по окончании срока для осужденных по политическим статьям. Заодно лишили нас права переписки, правда, через полгода разрешили получать письма и раз в месяц писать по письму. Без вестей от родных было невероятно тяжело, особенно тем, у кого они оказались в зоне тяжелых боев, а затем в оккупации. До нас доходили сведения о жестоких бомбовых ударах германской авиации, об оставленных городах; многие терзались, не зная, живы ли их близкие или погибли.
Начальство отнюдь не стремилось информировать заключенных о ходе военных действий, сведения поступали отрывочные и не всегда достоверные. Постепенно нам удалось установить некую закономерность: когда положение на фронтах становилось особенно тяжелым, наше начальство как бы поджимало хвосты и подчас шло на некоторые послабления, правда незначительные, но чуть только поступали известия об успехах, действительных или мнимых, снова начиналось завинчивание гаек.
В этой обстановке оживились, подняли головы немногочисленные у нас, но весьма опасные стукачи. Их на лагпункте знали наперечет, в этом отношении информация всегда была на уровне. Бывало, везут откуда-то этап с пополнением, а его уже предваряет извещение: едет к вам на Адак такой-то, сволочь, стукач, остерегайтесь. И стереглись, сколько было возможно.
Вот эти-то люди после начала войны оказались особенно нужными: то и дело кого-нибудь из этой братии вызывали на головной лагпункт к оперуполномоченному. Тот шагал, провожаемый ненавидящими взглядами, и недаром: обычно уже в ближайшую ночь кого-то забирали и назад он уже не возвращался — сажали в штрафной изолятор и вскоре увозили на Воркуту.
Страшные это были ночи. Внезапно со скрипом отворялась дверь, в барак входили вохровцы, их сопровождал комендант с фонарем. И тут, наверное, у каждого из нас возникало омерзительное чувство, унизительное, безысходное: не за мною ли? Называлась фамилия, и затем следовал окрик: «С вещами!»
Человек собирался растерянно, обреченно, при общем гробовом молчании, дверь за ним затворялась… И до рассвета лишь немногие могли заснуть.
Среди зимы обострился процесс в легких, и меня в очередной раз положили в стационар, там пришлось проваляться до мая. После выписки я надеялся вернуться на кирпичный завод — так обычно бывало. Однако на этот раз меня оставили на головном лагпункте, правда, поначалу на работу не посылали.
Оставаться в зоне я не хотел: на заводе были все мои друзья, там не было зоны, которая любому заключенному особенно ненавистна. Поэтому я стал добиваться возвращения на завод. В УРЧ (учетно-распределительная часть) сперва отмалчивались, затем на очередном разводе нарядчик зачитал, что я направляюсь в здешнюю бригаду. И тут я уперся: «Пойду на любую работу в заводе, а здесь выходить не стану».
Начиная эту тяжбу, я понимал, что рискую нарваться на серьезные неприятности вплоть до обвинения в саботаже. Прошли те времена, когда на заводе заправляли мои друзья, сперва Илья Любарский, затем Вениамин Флегонтович Романов — они-то обязательно меня бы отсюда вытащили. Теперешний начальник Днепров относился ко мне неплохо, но не тот это был человек, чтобы за кого-то хлопотать. Приходилось надеяться только на себя. Шансы у меня все же были: от работы я не отказывался, даже просился на более тяжелую.
И все же, когда утром 22 мая сорок второго года, через час после очередного отказа выйти на работу с бригадой посыльный вызвал меня в спецчасть, я невольно сник: доигрался, не иначе, под следствие попаду. В ожидании самого плохого я медленно побрел к избушке, где эта спецчасть помещалась. Там я не бывал ни разу, но знал определенно, что за хорошим туда в теперешнее время не вызывают. И был совершенно ошарашен, когда передо мной на стол легла небольшая бумажонка — постановление об освобождении по окончании срока; на ней мне следовало расписаться.
Мой срок окончился почти два месяца назад, но это казалось несущественным. На лагпункте были десятки, сотни людей, у которых срок закончился много раньше — ведь с начала войны не только никого из пятьдесят восьмой не освобождали, но и уже освобожденных возвращали в лагерь. Моих близких друзей, Лебедева и Латова, освобожденных перед началом войны, вернули прямо с дороги. Как актированные инвалиды, они снова попали на Адак. Считалось, что хоть в этом им повезло.
Скоро выяснилось, что кроме меня освобождаются еще пять человек. Известие быстро облетело лагпункт и вызвало всеобщее волнение. Все мы здесь смирились с мыслью, что до окончания войны об освобождении нечего и думать. Теперь не верилось, что такое возможно. Дошло до того, что один очень хороший и давно меня знавший человек вполне серьезно принялся допытываться: действительно ли у меня пятьдесят восьмая статья, а не бытовая. Настроение у всех поднялось: значит, начали освобождать. А я по приобретенной в лагере привычке попытался додуматься: почему именно эти люди?
Освобождались кроме меня агроном Вася Николаенко, молодой уйгур Юсуп Тохтаахунов, усатый кавказец, которого все на лагпункте звали Хасбулатом, хромой инженер Динерман и хрупкая интеллигентная женщина по фамилии Эйсмонт. Ее и Хасбулата я почти не знал. Ну, с Николаенко более или менее ясно: агроном с Украины, первоначально осужден на 25 лет «за умышленное заражение зерна долгоносиком», позднее, как и все такие «вредители», переквалифицирован с новой формулировкой «за халатность» и сокращением срока до пяти лет — стало быть, теперь бытовик. Юсуп и Динерман — оба инвалиды с тяжелым повреждением позвоночника, Динерман к тому же и хромой; однако среди окончивших срок здесь было немало еще более тяжелых инвалидов, к примеру, полностью ослепший Келлер — их освобождать не спешили.
И, наконец, я сам — ну, туберкулез, правда, тяжелый, но таких здесь хватало. Однако предположение все же у меня возникло. Когда началась наша дружба с Гитлером, многим, особенно таким как Днепров, побывавший в свое время юрисконсультом торгпредства в Германии, это пришлось по вкусу, иные даже преувеличенно восторгались. Этих восторгов я отнюдь не разделял. Тот факт, что советский вариант фашизма лобызался с немецким, представлялся мне событием хоть и вполне логичным, но безрадостным. Разумеется, напрямую это высказать я не мог, но однажды не удержался и сказал, правда, в узком кругу, что фашизм есть фашизм и от Гитлера хорошего ждать нечего.
Возможно, кто-то донес о такой крамоле, особого значения ей не придали, но в формуляр занесли. В дальнейшем, при новом повороте событий, такое могло послужить мне на пользу. Впрочем, повторяю, это только предположение, не более.
Слегка оправившись от пережитого шока, я переговорил с другими освобожденными. Как и я, все они стремились как можно скорее выбраться их лагеря. Решили просить начальника лагпункта сразу же отпустить нас в Кожву, в управление лагеря, где надлежало оформить и получить на руки документы. Сложность заключалась в том, что наше освобождение пришлось на время перед началом ледохода.
Вся связь заброшенного приполярного лагпункта с внешним миром возможна была только по реке Усе: летом на пароходе, а в долгое зимнее время — по льду, на грузовых автомашинах. В конце мая Уса все еще была скована льдом, до ледохода оставалось ждать не менее двух недель, до начала навигации — еще больше, да и пароходы лишь изредка приставали на Адаке: пассажиров здесь, на лагпункте, не было.
Мы просили начальника лагпункта отправить нас машиной до Усть-Усы, а оттуда надеялись по Печоре добраться до Кожвы. Однако начальник, бывший армейский комдив, за какую-то провинность угодивший на север, отказал наотрез: «Лед на реке сейчас тонкий, ненадежный, не раз уже машины с людьми и грузом проваливались и уходили под лед. Я такой риск себе позволить не могу, пока вы в лагере, я за вас в ответе. Оставайтесь, ждите начала навигации, с первым приставшим на Адаке пароходом отправитесь в Кожву. А пока живите, на работу ходить не будете, довольствием обеспечим по полной норме».
Оставалось только согласиться. Сперва нас оставили на своих местах в бараках, на работу не посылали, и я целыми днями слонялся по зоне, как неприкаянный. От безделья мне, «вольному гражданину», безвыходное пребывание в зоне казалось еще более тягостным. Больше всего хотелось оказаться на кирпичном заводе среди друзей, но об этом мечтать не приходилось. И еще было какое-то тягостное чувство стыда, что ли, перед теми, кто оставался здесь.
С нетерпением ожидал я начала ледохода, каждую ночь по нескольку раз выходил из барака, вслушивался: не трещит ли лед; здесь, в зоне, река была скрыта за ограждением. Было тихо, ни малейшего звука… Я возвращался в барак, забирался на нары и думал, думал, иногда не засыпая до утра. А думать приходилось основательно.
Первые полгода после войны я не получал известий от родных — действовал запрет на переписку. Чернигов, где жила наша семья, был в руках немцев, и можно было предполагать самое худшее. Велико было мое облегчение, когда из первого выданного мне письма я узнал, что все мои родные, кроме двоюродного брата (он был на фронте) живы, эвакуировались, добрались до Горького и нашли там приют у моего дяди, инженера автозавода. Я сознавал, что туда меня не пустят, следовательно, предстоит забираться неведомо куда и на какое-то время отказаться от мысли жить вместе с матерью; этой надеждой и она, и я жили все эти годы.
Долгожданный ледоход наступил как-то сразу и в эту весну был, а может быть, показался мне необычайно бурным. В прошлые годы на кирпичном заводе, где не было зоны, в ледоход мы все выбирались на берег и, не отрывая глаз, глядели на реку. Но на головном лагпункте река была скрыта от глаз сплошным частоколом, и нам, «вольным гражданам», приходилось каждый раз выпрашивать на проходной разрешение на выход из зоны.
Вопреки ожиданиям, после нас, во всяком случае вплоть до нашего отъезда никого здесь не освобождали.
Как только прошел лед, нас перевели на кирпичный завод — только там могли приставать пароходы. Из освобожденных только мы с Юсупом были заводскими. Переезд на завод меня обрадовал: последние дни на Адаке проведу среди друзей. Однако начальство мыслило по-иному: нам отвели отдельное помещение и запретили общаться с заключенными. Это было первое ощутимое следствие нашего нового статуса «вольных граждан». Правда, оказавшись на заводе, я и кое-кто из остальных этот запрет сразу стали нарушать. По вечерам я пробирался в барак к своим и оставался там почти до отбоя. Разумеется, наш стрелок Янгаев знал про эти вылазки, но, прожив с нами бок о бок почти три года, закрывал глаза. Спокойный и немногословный, он никогда не использовал нам во вред свою немалую власть.
Уже началась навигация, но первые пароходы, несмотря на сигналы коменданта и стрелка, к нашей пристани не поворачивали. Несложный скарб и документы были при нас, приходилось набираться терпения и ждать.
Наконец в ясный солнечный день, когда мы уже утомились от долгого стояния на берегу, проходивший по Усе пароход начал разворачиваться к нашему берегу. Мы бросились в барак за вещами, попрощались с теми, кто оставался, и по наспех спущенному трапу поднялись на пароход, но не все шестеро. Незадолго до этого неожиданно объявили, что задерживается Динерман, как всегда, не объясняя причины. Это был мерзкий удар ниже пояса — поманили человека свободой и вдруг такое. До сих пор остаюсь в неведении — в чем тут было дело, и как сложилась дальнейшая его судьба.
Тот путь, который в тридцать восьмом году я проделал полуживым доходягой под конвоем, предстоял мне в обратном направлении на положении вольного, с билетом на руках. Все мы до позднего вечера, не покидая палубы, глядели на поросшие лесом берега Усы. Был июнь — самое красивое здесь время белых ночей; наверное, впервые мы в полной мере ощутили своеобразное очарование этих мест. Дышалось легко, на реке не было комаров и гнуса, так докучавших в летнее время все эти годы… Мы почти не говорили, лишь изредка обменивались короткими замечаниями, каждый думал о своем.
Сейчас совершенно не могу вспомнить, как добирались до Кожвы, зато в памяти отчетливо сохранился солнечный день и первое, что увидел в Кожве: зона, добротно огороженная частоколом, стрелки на свежесрубленных вышках… Все тот же сон… и при входе через проходную я весь внутренне сжался, как будто и не расписывался на бумажонке об освобождении.
Вахтенный стрелок просмотрел наши документы, мы вошли в зону, и тут я попал в объятия моего давнего знакомого, адакского старожила Самуила Мучника.
— А я тебя здесь давно поджидаю! — были его первые слова.
Москвич, прошедший до Адака шахты Воркуты, искалеченный при обвале породы и оставшийся хромым, Самуил работал на Адаке в бухгалтерии; оттуда его как отличного работника перевели в Кожву, в бухгалтерию главного управления лагеря. Я как-то позабыл, что он в Кожве, а Самуил, работая в бухгалтерии, узнал о предстоящем освобождении много раньше, чем я сам, ведь через них проходили все расчетные документы. Самуил был бодрым, оживленным, его смуглое лицо с пышной шапкой седеющих волос светилось энергией и умом. Он тут же потащил меня в барак для управленцев, где жил, и принялся угощать, попутно объясняя, где и как мне оформлять документы.
Разумеется, я был рад этой неожиданной встрече с человеком много старше и опытнее меня с ясным умом, удивительно доброжелательным. Я поделился с ним своими раздумьями и попросил совета: как быть с выбором места жительства.
Так сложилась моя жизнь до лагеря, что кроме Москвы, где я родился и учился в институте, и Чернигова, где прошло мое детство, я больше нигде не бывал, да и все мои родные, за исключением дяди, инженера Горьковского автозавода, жили только в этих двух городах. Теперь Чернигов оказался у немцев, а Москва и Горький для таких как я были местами запретными. Остальные города и веси необъятной страны казались такими же неизведанными, как Луна или Марс. В ближайшие дни мне предстояло сделать выбор, тут же оформить документы и выезжать на место. Самуил согласился со мною, что в такое время разумнее забраться куда-нибудь поглуше. В крупных городах, если даже разрешат проживать, опасность гораздо больше — под боком у гебешников трудно уберечься от их бдительности, того и гляди заметут по новой.
Почему-то еще на Адаке мне запала в голову мысль — забиться куда-нибудь на Алтай. Больше никаких других вариантов в запасе не было. Я был готов обосноваться в любом месте, лишь бы забрать к себе маму, так много пережившую за все эти годы, и жить с ней и для нее. О какой-либо иной личной жизни, тем более о продолжении образования, я и думать не хотел, настолько измотали меня лагерные годы. Вместе с тем я твердо верил, что после испытанного не побоюсь любой работы и смогу обеспечить себя и маму, благо требования к жизни у нас самые скромные.
— Вот что я могу тебе предложить, — сказал Самуил. — Мой брат, инженер-химик, сейчас эвакуирован со своим заводом в Татарию, в поселок Бондюга, там большое химическое производство. Если уж тебя не пустят на Алтай или еще куда ты попросишься, назови Бондюгу, там, во всяком случае, будет человек, который тебя поддержит и поможет в устройстве на новом месте. Я дам тебе письмо к нему, и что будет в его силах, он сделает.
С таким планом действий я и отправился на собеседование в спецчасть. Разговор с принимавшим нас поодиночке гебевским чином прошел по единому сценарию: называешь желаемый город — отказ, предлагаешь следующий — то же, сам начальничек ничего не предлагает: называй, дескать, следующий, а мы посмотрим. Хотя все мы, зная правила игры, называли городки, удаленные от крупных центров, оказалось, что и они для УГБ неприемлемы. Мне в Бийск оказалось нельзя, больше ничего в запасе не было, назвал Бондюгу и получил добро. Когда все мы прошли собеседование, оказалось, что всем определили жить-проживать в приволжских городах, вот и мне поблизости, в Прикамье.
Еще до собеседования в спецчасти у меня неожиданно появилась новая возможность устроиться. Васе Николаенко предложили остаться здесь, в Кожве, заведующим складом управления лагеря. Его родные места (уж не припомню, Херсонщина или Николаевщина) были захвачены немцами, известий о семье он не имел. Ехать ему было некуда, условия предлагались хорошие, и Вася решил согласиться. Теперь он предложил нам с Юсупом остаться работать вместе с ним и горячо убеждал согласиться: «Оставайтесь, я уже о вас договорился, будем вместе жить, как братья, здесь таким, как мы, сейчас спокойнее и безопасней, мало ли как и к чему там могут прицепиться. Обживешься, потом и мать к себе заберешь».
Я ни на минуту не сомневался в искренности этого великодушного, и в общем разумного, предложения. Здесь сказалась та братская взаимопомощь, та бескорыстная поддержка, чем лагерная жизнь при всех ее тяготах на несколько порядков превосходила так называемую вольную. В этом мне предстояло убедиться в скором времени уже в армии.
На заброшенном отдаленном лагпункте, каким был Адак, мы совершенно не представляли себе, насколько изменилась к худшему жизнь страны в военное время. Однако в Кожве, как-никак управленческом лагпункте при железной дороге, осведомленность была намного точнее. Здесь я впервые услышал о тяжелом положении с продовольствием, о вшивости, о разгуле преступности, об эшелонах с ранеными, непрерывным потоком поступающих с фронтов. В глубинке лагерного края дыхание войны еще не сказывалось в полной мере. Уровень жизни вольного населения существенно не изменился, да и лагерники при ужесточении режима пока еще получали такое же довольствие, что и до войны. Во всяком случае, так было на Адаке и в Кожве.
Но никакие соблазны спокойной и более или менее обеспеченной жизни не могли меня остановить. Я никогда не решился бы обречь мою мать на жизнь вдали от всей нашей семьи рядом с зоной. Все эти годы я только и жил надеждой вырваться с Севера и отрясти весь лагерный прах от ног своих. Решимость ехать в Россию осталась неизменной. Я от души поблагодарил Васю и пошел на собеседование. Юсуп решил остаться.
Оформление документов оказалось несложным, мне выдали справку об освобождении и еще какие-то документы, с ними я обязан был отмечаться в спецкомендатурах как в конечном пункте назначения, так и на пересадках. На складе я получил сухой паек на пять дней и аттестат. Продукты были хорошие: консервы в банках, сахар, масло, крупы. Случайно в каптерке оказался вохровец. Глядя, как я укладываю в свой рюкзак все это добро, он сказал:
— Забирай и еще, если можешь, здесь прикупи. Я только вернулся из отпуска, там, в России, ничего такого не достать, голодно. Оставался бы лучше на Севере.
Но я уже всем своим существом был нацелен на отъезд. Хоть и не надолго, но к своим, к маме, а там будь что будет… После лагеря ничто меня не страшило.
В Россию я ехал по той самой железной дороге, которую мне довелось строить в начале моего лагерного пути почти пять лет назад. Под мерное постукивание колес вагона я вглядывался в необъятные леса, среди которых пролегла трасса. Освещенные солнцем, они казались сказочно красивыми. Небольшие полустанки, мимо которых мы проезжали, выглядели благоустроенными. Если бы я не знал (причем не понаслышке, а по собственному горькому опыту) страшную историю этой стройки, где в нечеловеческих условиях были угроблены тысячи людей, железная дорога, по которой в короткое время предстояло добираться к родным, могла показаться великим благом. Но в пути, проезжая станции с памятными именами Ухта, Княж-Погост, Тобысь, я вспоминал тот ад, какой прошел в этих местах. Обидным и чудовищно несправедливым казалось мне неминуемое в будущем забвение тех жертв, которые были принесены здесь во имя «светлого будущего». Добравшись до Котласа, я осознал, что страна военного времени, представшая предо мной, совершенно иная, чем та, долагерная, оставшаяся в моей памяти. Прежде всего бросалась в глаза обстановка на станциях: грязь, свалки, подчас даже драки при посадках в вагоны, озлобленные, растерянные люди, множество раненых, на костылях или с руками, притянутыми бинтами к туловищу, иные с повязками, сквозь которые проступала кровь.
Поразила и непривычная для меня торговля с рук махоркой, хлебом и карточками на хлеб и, конечно, цены. Ведь тридцать седьмой год, когда я попал в заключение, был, особенно в Москве, внешне благополучным, тогда страна, казалось, начинала оправляться от развала, вызванного коллективизацией. Теперь контраст был разительный.
Продолжение текста — Чувство отчужденности от всех
Источник: Рубанович Виктор. Адрес – лагпункт Адак: автобиографическая проза. М.: Возвращение, 2011. с. 169-179. (Тираж 2000 экз.)