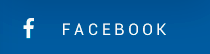Жуем промерзший «второй фронт», не теряя бдительности
Зимой 28 ноября — 1 декабря 1943 года проходила Тегеранская конференция руководителей союзных держав. На ней Сталин потребовал от Рузвельта и Черчилля выполнения их обязательств по открытию второго фронта в Европе. Те, по-видимому, уже догадывались, что задержка с этим становится им самим невыгодной — Красная армия стремительно шла на Запад и местами уже входила в Западную Европу.

Тегеранская конференция руководителей союзных держав
В тяжелейших январских боях 1944 г. наши пехотные полки прошли победным путем по болотам Синявина и 21 января штыковыми ударами освободили станцию и город Мга. 27 января была окончательно прорвана блокада Ленинграда.
С наступлением весны 1944 г. аэродром Тоцкого очистился от снега и быстро просох. Начались регулярные тренировочные полеты в полном составе экипажей. Время летело быстро. В мае окрестные холмы запестрели полянами диких тюльпанов и ирисов, привольный ветер доносил запах распустившихся деревьев и цветущей дикой вишни. Вести с фронтов были все более радостными. Ошеломляющим был успех наших войск по освобождению 10 апреля Одессы, а затем и окруженного нашими войсками Крыма. 9 мая 1944 г. наземными войсками во взаимодействии с Черноморским флотом и при поддержке авиации дальнего действия был освобожден Севастополь.
6 июня была осуществлена высадка войск союзников в Нормандии, открыт долгожданный второй фронт. Задержка с его открытием всех в нашей стране возмущала. Наша армия в течение трех лет несла тяжелейшие потери, тыл выполнял почти непосильную работу, и только всеобщий патриотический подъем, соединение всеобщих сил и веры в победу спасали страну. Представители союзных правительств время от времени посещали Москву и даже выезжали на фронт. Видимо, присматривались и оценивали, долго ли мы продержимся и стоит ли нам помогать. Помощь союзников ощущалась заметно в поставках продуктов и автомашин, бензина, моторных масел. Но все это, конечно, никак не заменяло боевой помощи действием союзных войск на западном, европейском, фронте, что отвлекало бы часть немецких сил с восточного фронта и позволило бы нашей армии вести бои с меньшими потерями. Даже символическое участие в боях на нашей стороне в 1943 г. небольшой группы французских летчиков, из которых был сформирован истребительный авиационный полк «Нормандия — Неман», высоко оценивалось всеми у нас как реальная помощь нашей армии.
В июле наши экипажи покинули Тоцкое и направились в боевые полки, а штурмана вылетели в Астафьево на месячные курсы усовершенствования в методах радионавигации и астронавигации. Лекции преподавателей высокой квалификации были чрезвычайно интересными и полезными нам. Полеты в группе слушателей на самолете Ли-2 с практикой самолетовождения с использованием самолетного радиополукомпаса и пеленгатора, с ориентировкой по наземным радиомаякам, пеленгаторам, приводным и широковещательным радиостанциям с определением места по высоте звезд и прокладкой на карте позиционных линий по методу Сомнера были исключительно полезными. Время в Астафьеве пролетело стремительно.
Еще по прибытии сюда москвичам разрешили съездить на день домой, повидаться с родными. Дома я узнал о гибели 25 июня 1944 г. под Витебском старшего брата Димы. Пехотный старший лейтенант Дима Удинцев, ведя группу разведчиков, попал в засаду. Все 12 погибли в бою близ деревни Якуши. 26 июня наши войска освободили Витебск. Сохранилось несколько написанных Димой на войне стихотворений.

В середине мой отец Б.Д. Удинцев, справа — мой двоюродный брат Дима Удинцев, слева — Глеб Удинцев, ноябрь 1931 г.
Перед вылетом из Астафьева в Борисполь, аэродром под Киевом, в предназначенный мне 3-й Гвардейский Смоленский полк АДД 2-й Севастопольской авиадивизии, куда еще из Тоцкого улетел мой экипаж, я успел еще раз побывать дома и проститься с родителями. Моя мама подарила мне на прощание ладанку с зашитой в нее молитвой и попросила: «Почаще вспоминай меня и знай, что материнская молитва даже в бою спасает!»
На следующий день я вылетел из Астафьева в Борисполь, где стоял наш полк, пассажиром транспортного Ли-2. В полете я вспоминал прощание с мамой и невольно вспомнились мне чудесные строфы лермонтовской «Казачьей колыбельной», которую певала мне мама в годы моего раннего детства:
… Дам тебе я на дорогу,
Образок святой,
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой;
Да готовясь в бой опасный,
Помни мать свою…
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю…
Думала ли она тогда, что будет день и придется ей прощаться со мной, улетающим на войну? Грустная все же судьба у миллионов русских матерей. И другие слова любимого моим отцом поэта Александра Блока вспоминались мне тогда:
Россия-мать, как птица тужит
О детях, но ее судьба,
Чтоб их терзали ястреба.
Доколе ястребу кружить?
Доколе матери тужить?
В тот же день прибыл я на аэродром Борисполь. С аэродрома меня отвезли с возвращавшимися с вылетов экипажами в село Большая Александровка, где размещался по хатам состав нашего полка. Там я встретился с моим экипажем, и мой командир Миша Красновский отвел и представил меня сначала командиру звена старшему лейтенанту Мише Бондаренко, а потом командиру эскадрильи капитану Евдокимову. Тот поздравил меня с прибытием в полк, пожелал успешной боевой работы, а назавтра разрешил отдохнуть, погулять по окрестностям Борисполя. Миша Красновский должен был участвовать в каких-то делах по аэродрому, с ним и наши стрелки, а мне они посоветовали побродить по окрестностям и попробовать местных помидоров на поле и яблок в садах — никто тебя ругать за это не станет. Что ж, после небогатой свежими витаминами пищи в Тоцком и Астафьеве это было привлекательно.
Я отошел от села совсем недалеко и вышел на шоссе, ведущее на запад, в Киев. По шоссе почти сплошным потоком шли незнакомые мне еще трехосные грузовые автомашины «студебеккер». Некоторые — с артиллерийским орудием на буксире. Я долго с восхищением смотрел на этот поток могучей военной техники. Потом набрел на широкое поле, сплошь засаженное помидорами. Помидоры на кустах были невиданно огромные, ярко-красные — в нашей центральной России я таких никогда не видал. На поле работали женщины, собирали урожай. Я спросил у них, нельзя ли мне сорвать несколько помидоров. Они мне с радостью разрешили это. Помидоры были уже совсем спелые, очень крупные, на разломе сверкали, словно сахарные. Они и на вкус-то были словно сахарные. Искать, где бы попробовать яблок, я не стал. Домой в нашу хату и к полковой столовой я вернулся к обеду и там встретился с несколькими знакомыми мне по Тоцкому и по Челябинску штурманами и пилотами, познакомился с другими, уже «старожилами» полка.
На второй день своего пребывания в полку я стал свидетелем суровой реальности. С боевого вылета не вернулся капитан Евдокимов — экипажи других самолетов видели, что его самолет сбили на обратном пути немецкие зенитки, стоявшие на гребне Карпатских гор. Командование эскадрильей принял капитан Комлик. Миновало два-три дня и погиб на снижении к аэродрому еще один самолет — заглохли моторы, иссякло топливо к исходу долгого полета. Такова была жестокая правда боевой жизни полка.

Штурман эскадрильи 3-го ГКСБАП, гвардии капитан М.К. Шумило
Но будни жизни шли своим чередом. Практически ежедневно в послеобеденные часы штурманов собирал на занятия штурман эскадрильи старший лейтенант Миша Шумило. Миша — одессит, не закончив мехмат Одесского университета, он ушел с началом воины с третьего курса в армию и окончил авиационное училище. Его пилот — бывалый полярный летчик капитан Остроущенко. Их экипаж на отличном счету в нашем полку. Их, как правило, посылают на фотографирование цели. Это задание требует от экипажа очень высокого мастерства и незаурядной храбрости. После того как полк отбомбится по цели и зенитки хорошо пристреляются, фотографы должны пройти над целью «по линеечке», не колыхнув машину под разрывами снарядов зениток, чтобы снимки были четкими и без пропусков. Иначе задание не будет сочтено выполненным. Остроущенко и Шумило всегда привозили отличные снимки, нужные полку для подтверждения отчета о выполнении боевого вылета.
Миша был необычайно остроумный, обаятельный человек. Занятия его со штурманами были увлекательны, но от новичков он требовал большого внимания. Наша задача, прежде всего, хорошо изучить район полетов, наизусть заучить карту в радиусе примерно 1000 км вокруг Борисполя. Проверкой успешности этого служит способность нарисовать на чистом листе бумаги скелетную карту со всеми линейными ориентирами, крупными населенными пунктами и аэродромами. На это уходит два-три дня, но зато потом в полете легко ориентируешься на местности. Менее тщательно, но все же достаточно подробно изучаем карты района полетов на бомбометание по наиболее вероятным целям — это карты Финляндии и Балтики, Польши, Восточной Германии, Чехословакии, Венгрии. Непосредственно перед вылетом нам будут давать еще специальную разведывательную информацию о цели, но это уже на аэродроме. Занятия со штурманами Миша проводит каждый день, сообщает намеченную на ночной вылет цель, задает нам выполнить прокладку на картах — на десятимиллионной маршрутной карте и двадцатипятимиллионной генеральной карте, произвести расчет расстояний и времени полета, записать позывные радиостанций и радиомаяков, подобрать в астрономических таблицах удобные для определения места пары звезд. На все это уходит время до ужина. Занятия с Мишей идут легко — он очень остроумен, его речь полна блестящим «одесситским» юмором, и каскад служебных сведений, благодаря этому, запоминается очень легко. Вспоминая этого веселого и умнейшего человека, я вижу его смеющееся лицо, и мне не верится, что его уже нет в живых, как и почти всех моих однополчан.
Мне, конечно, хочется поскорее участвовать в боевом вылете, но наш экипаж и прибывший из Тоцкого одновременно с нами экипаж Василия Думанского, в котором штурманом «челябинец» из моего отделения Иван Попов, пока выпускают только на тренировочные полеты. Боевые вылеты проходят ночью, а наши тренировочные — сначала в дневное время, а потом тоже ночью, но по более коротким маршрутам, чем боевые. Задания на боевые вылеты сильно зависят от информации о погодных условиях по маршруту полета. Если такой информации у полковых метеорологов оказывается недостаточно, то перед началом боевого вылета основного состава самолетов высылается экипаж «разведчик погоды». Он подробно сообщает на командный пункт об условиях погоды по маршруту полета. Предметом особого внимания являются холодные атмосферные фронты с возможными скоплениями грозовых облаков. Они опасны для наших самолетов, надо знать, как обойти грозовую облачность с ее стремительными вертикальными восходящими-нисходящими потоками и электрическими разрядами. После того как разведка погоды выполнена, командир полка решает, какие экипажи и в каком порядке послать на цель. Принятая тактика — с закатом солнца самолеты покидают аэродром, уходя с вето с интервалом примерно в 5 мин. Они выполняют одиночный полет, по очереди появляются над целью и бомбят ее. Первым уходит наиболее опытный экипаж — разведчик и осветитель цели, помогающий остальным экипажам безошибочно выйти на цель. Он же часто получает задание выполнить обязанности контролера бомбометания, регистрируя время и места разрывов бомб, сброшенных нашими самолетами. Эти данные сопоставляются потом штурманом полка с донесениями штурманов, бомбивших цель. После выполнения бомбометания, требующего от пилота строго выдерживать боевой курс, несмотря на ожесточенный огонь зениток — сначала заградительный, а потом уже прицельный, пилот уходит от цели, выполняя противозенитный маневр.
Он бросает самолет то вправо, то влево, а то и вверх, но больше все же вниз, как порхающий на ветру осенний кленовый лист, уходя от прицельного огня зениток. Ил-4 — тяжелая машина, и за 10-15 мин такого маневра пилот уже в поту. Выйдя из зоны огня зениток и рыскающих по небу лучей прожекторов, убедившись, что ночные истребители не преследуют нас, пилот обычно командует: «Штурман, прикури и дай мне сигарету, а сам бери ручку и поведи машину, дай мне передохнуть!» Управлению самолетом Ил-4 Миша обучил меня еще в Тоцком. Я никогда в жизни не курил, но приказ командира — закон. Прикуриваю и передаю ему сигарету. После нескольких минут передышки пилот снова берется за управление, а штурман определяет курс на свой аэродром, уточняет свое место тем или иным методом и настраивает радиокомпас на мощную радиостанцию ШВРС — широковещательную. Это были в те годы станции «Коминтерн» и «ВЦСПС», а потом на аэродромную «приводную» радиостанцию. Отстрелявшийся, если нас атаковали ночные истребители, стрелок-радист отбивает донесение на командный пункт полка и замолкает. Делит борт-паек и раздает его экипажу. При температуре минус 55° на высоте 6-8 тыс. м хлеб становится как камень, и радист рубит его либо трофейным немецким штыком-тесаком, либо топориком, рубит и банку с американской тушенкой, которую уничижительно зовут «вторым фронтом», — это прозвище не пропадает даже после высадки 6 июня 1944 г. союзных войск в Нормандии. Нашим войскам ненамного легче от этого стало, хотя шуму об этом открытии второго фронта было много.
Недалек, впрочем, день, когда в Арденнах немцы устроят нашим союзникам свой «последний блицкриг», и Сталин будет вынужден, по просьбе Черчилля, облегчить положение союзных войск, ускорив начало возглавляемой Жуковым Висло-Одерской операции. Он передвинет ее начало с 20 на 12 января 1945 г. Мы же пока, осенью 1944 г., жуем промерзший «второй фронт», не теряя бдительности и не спуская глаз с приборов — не потерять бы ориентировки и точно выйти на свой аэродром.
Но это будет позже. Пока же — тренировочные полеты с проверкой своего знания местности района полетов, слаженности действий экипажа. Новичков не торопятся выпускать на боевые вылеты, дают нам возможность приобвыкнуть к работе полка.
А между тем боевая жизнь полка идет своим чередом. В один из дней утром не досчитались среди вернувшихся самолета командира еще одной из эскадрилий. День надеялись, что, может быть, он обнаружится где-нибудь на вынужденной посадке. На следующий день пришло сообщение от одной из наземных частей — видели, как был сбит немецкими истребителями, уже перелетев линию фронта, наш Ил-4. Летчики выбросились с парашютами, но были расстреляны в воздухе. Нашли тело нашего командира эскадрильи. Еще через несколько дней утром на посадке у вернувшегося с боевого вылета самолета отказали моторы, и он рухнул на землю, не дотянув до посадочной полосы. Видимо, уставший за вылет пилот забыл переключить подачу топлива из основных бензобаков на подачу из резервных посадочных. Погиб весь экипаж. Похоронили товарищей на окраине нашего села. В один из дней, чтобы разрядить напряженную обстановку, командир полка полковник П.П. Глазков разрешил части экипажей съездить передохнуть в Киев. Желающих набралось не очень много, предпочитали отдохнуть в селе, купаясь в пруду, и по хатам.
Свободные места в выделенном для этой поездки полковом грузовичке «бед-форд» оставались, и мне тоже разрешили поехать.
Я был очень рад побывать в Киеве, ибо хотел увидаться с семьей моего двоюродного деда, профессора Киевского медицинского института. В 1941— 1943 гг. этот институт был в эвакуации в Челябинске. Дед вызвался раз в неделю приезжать в лазарет нашего училища для консультаций — он был опытным терапевтом. Однажды и я попал к нему на консультацию — после работы на заготовке торфа в холодных болотах у меня образовались 15 огромных фурункулов, и я угодил в лазарет. Дед прописал мне аутогемотерапию, и за несколько дней я был снова как огурчик, мог продолжать летать. Теперь медицинский институт уже вернулся из Челябинска в Киев, и мне представился случай навестить родичей и поблагодарить деда за удачное излечение. Раньше я был почти незнаком с ними, слышал только, что дед Федор Аристархович был дружен со знаменитым хирургом, епископом Лукой Войно-Ясенецким, с которым вместе учился в Военно-медицинской академии в Петербурге. Имя епископа Луки в тот год стало знаменитым — он получил Сталинскую премию за свою книгу «Гнойная хирургия» и за самоотверженный труд в одном из госпиталей по спасению жизни многих тяжело раненных воинов. Встреча с дедом и бабушкой была для меня большой радостью. Их сын — мой дядя-Андрей, хирург, тоже служил в армии военным врачом во фронтовом медсанбате.
Вскоре после этого наш полк перебазировался в сентябре из Борисполя на полевой аэродром Красилова, большого села на реке Случь, расположенного к югу от Старо-Константинова, что на железной дороге Киев — Львов, и севернее Проскурова. Очень красивые места, холмистые, поросшие густыми буковыми и ясеневыми лесами. Мы разместились на постой по хатам — в каждой хате пилот и штурман, группируясь по звеньям и эскадрильям для обеспечения хорошей связи, а стрелки-радисты и стрелки — в здании сельского клуба в центре села. Там же располагались штаб полка и столовая. В селе уже стоял до нас авиационный полк штурмовиков Ил-2, так что нашему полку достались в наследство обжитые штурмовиками места и помещения. Аэродром был неподалеку от села, нас туда возили на грузовике. Полк начал интенсивную боевую работу. Вылеты совершались большей частью на крупные города и железнодорожные узлы Чехословакии, Силезии, Венгрии. Маршруты были достаточно дальними. Прокладку маршрута вели по склеенным листам миллионной карты по ортодромии — кратчайшему расстоянию по дуге большого круга. Прокладывали маршрут по такой дуговой линии с помощью подручного инструмента — заимствуемой у хозяев хат двуручной стальной пилы, предназначенной для распиловки дров. Упругая стальная полоса такой пилы служила отличным лекалом, изгибаемым по дуге ортодромии. Хорошие карандаши «Кох и нор» (Кох-и-нур) для работы по карте мне удалось купить на сельском базарчике. Видно, они достались местному населению в качестве трофея после улетевшего на запад немецкого летного полка.
Мы с моим пилотом Мишей Красновским и нашими «стрелкачами» начали здесь много летать на тренировочные, а потом и на боевые вылеты. Готовились к вылетам ежедневно, но на вылет нас выпускали не каждый день. На аэродром вывозили всех, а там, в штабной землянке, ждали указаний из дивизии — на какую цель, сколько экипажей и какой категории должен выслать полк. Молодые, не очень еще опытные экипажи, посылали не каждый день. Нас, молодых, это очень огорчало. Хотелось стать равными или хотя бы приблизиться к равенству с нашими старшими товарищами. Должен сказать, что окружавшие нас летчики вызывали у всех высочайшее уважение и служили нам образцом для подражания. Многих я до сих пор хорошо помню, и лица их, как живые, возникают в моем мысленном взоре, едва подумаешь о них. Замечательные все они были люди и первоклассные специалисты-летчики.
Некоторые из них воевали с первых дней войны. Командир полка Павел Петрович Глазков и его штурман Семен Порфирьевич Чугуев, летчики так называемого «комсомольского призыва» 30-х гг., объединились в одном экипаже еще за два-три года до войны. Оба прославились и были легендой нашего полка за вылет 29 ноября 1941 г. на бомбежку железнодорожного моста у Яхромы, под Москвой.
Не только о Глазкове, но и об остальных летчиках 3-го Гвардейского Смоленско-Берлинского полка легенд не пересказать. В середине сентября 1943 г. они бомбили немцев в Смоленске, выполняя бессчетное число вылетов. Смоленск был освобожден 25 сентября, и полк получил почетное название — Смоленский. В начале мая 1944 г. полк обрушил бомбовые удары на немцев в Севастополе. В 1941-1942 гг. этот окруженный фашистами город-герой выдержал почти восьмимесячную осаду — с 30 октября 1941 г. до 30 июля 1942 г. и был оставлен, только когда не стало возможности снабжать его защитников боеприпасами. Под объединенными ударами артиллерии и авиации с 5 по 9 мая 1944 г. город был освобожден за 5 дней, и 2-я авиадивизия, в которую входил наш полк, получила звание Севастопольской. Войну наш полк заканчивал бомбовыми ударами по Зееловским высотам на Кюстринском плацдарме за Одером. Опережая вал танковых и пехотных атак, устремленных к Берлину, наш полк бомбил подступы к рейхстагу в Тиргартене, уничтожив сосредоточенную там бронетехнику. Эти последние дни войны дали полку почетное звание Берлинского.
Общее впечатление обо всех моих однополчанах на всю жизнь — необычайно скромные и как бы ничем не выделяющиеся друг перед другом люди. В тесном общении с ними я понимал, что это были беззаветно храбрые герои и специалисты своего дела самого высокого класса. Между ними установились тесные дружеские отношения и создалась обстановка равенства перед воинским долгом, независимо от опыта и способностей каждого. Так пелось в тогдашней песне:
Парня встретила дружная фронтовая семья,
Всюду были товарищи, всюду были друзья…
Много лет уже прошло с тех пор. Я уволился из армии в 1946 г. и по сей день работаю в Российской академии наук, занимаясь любимым делом — изучением дна морей и океанов. Уходил я из полка, мечтая закончить университет, и с одобрением и поддержкой моих старших товарищей. Их и всех однополчан постоянно вспоминаю. Увы, почти никого из них уже нет в живых. Остались кое-кто из их вдов, с которыми я время от времени обмениваюсь письмами. Вспоминая сослуживцев по армии, вижу их как живых, настолько глубоко они вошли в мою душу, хоть имена некоторые стерлись в памяти. Пытаюсь все же восстановить имена. Вот командир полка полковник Павел Петрович Глазков. Его штурман, тогда уже штурман дивизии — Семен Порфирьевич Чугуев, заместитель командира полка по политчасти — Сергей Николаевич Соколов. Заместители командира полка по летной части: А. С. Петушков, Н. И. Шатаев, С. У. Балалов, пилоты И. Евдокимов, Долгаленко, С. Комлик, Н. В. Молчанов, Кореневский, В. Замыцкий, Остроущенко, Ю. Шаньшин, В. Думанский, М. Бондаренко, Ларцев, Д. Л. Прихода, штурмана С. Муха, И. Попов, И. Мирошник, Полушкин, Головко, Напалков. Да простит меня Бог, что имена многих забыл. Помог мне вспомнить их бывший стрелок-радист Вадим Головинский, живущий в Геленджике, с которым мы общались по телефону.

Младшие лейтенанты (слева направо): пилот М.Т, Красновский, штурманы Г.Б. Удинцев и И.П. Попов , пилот В.И. Думанский, 1944 году
Отношение всех однополчан, начальства, старших по возрасту и моих сверстников, ко вновь прибывшим в полк офицерам моего уровня, ко мне и моему товарищу по челябинскому училищу Ивану Попову, было удивительно доброжелательным. Думаю, что в своей жизни не встречал я потом столь дружного и доброжелательного друг к другу коллектива, как наш авиаполк. Многие годы, работая потом в морских экспедициях, я, как правило, тоже бывал счастлив общением с дружным коллективом экипажей исследовательских судов и большей частью научного состава. Но были при этом в научном мире черты поведения, начисто отсутствовавшие в жизни боевого полка, — элементы конкуренции, ревности и зависти, хоть и подавляемые воспитанностью интеллигентных, образованных людей. Этого начисто не было в боевом полку. В самом деле, в чем соревноваться, чему завидовать — возможности рисковать, готовности жертвовать собой в боевом вылете? Где тут место конкуренции и зависти? Конечно, встречались и тогда люди то ли боязливые, то ли расчетливо эгоистичные, не желавшие рисковать собой ради общего дела. Из боевых полков они отсеивались, находя себе нишу где-то в более спокойных местах. Однако им никто не завидовал — они выпадали из боевого братства, и все скорее, жалели, чем завидовали, и не очень одобряли. Я счастлив, что, живя в несомненно великую эпоху и будучи современником Великой Отечественной войны, смог принять в ней боевое, хотя и скромное по масштабам участие. Чувствовал бы себя неудачником, если бы мое желание участвовать в боях не осуществилось. Прекрасно сказано Тютчевым:
Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был —
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!
Когда я узнавал, что кто-то из моих друзей, прибегая к заступничеству отцов или влиятельных родственников, предпочитал остаться в тылу и избежать риска боев, я не считал себя вправе осуждать их, мотивы поступков могли быть разными. Но я думал, и продолжаю думать и сейчас, что они легкомысленно лишали себя сами счастья быть вместе с теми, кто «…заживо, как небожитель, из чаши их бессмертье пил!»
Продолжение следует.
Источник: Удинцев Г.Б. Записки по гидрографии. Магеллановы Облака (Очерки исследования дна океанов. Тираж 400 экз.). — СПб. 2009. с. 108-115.