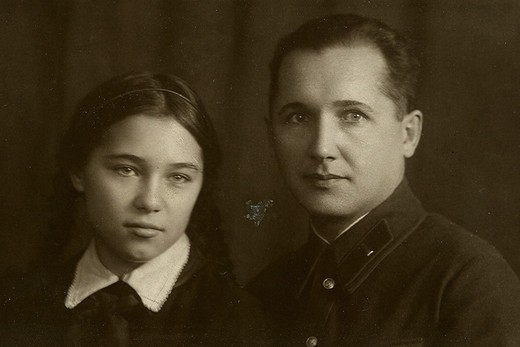Все надо перетерпеть – война
Все что здесь написано – правда,
и ничего, кроме правды.
так было.
В книге «Колыбель для кошки» знаменитого Курта Воннегута есть такая сцена. Сын отдал свою престарелую мать в дом инвалидов. Из приюта ему звонят и просят приехать — мать умирает и что-то хочет ему сказать. Он едет, переживает, думает, что мать сейчас скажет, как же ты мог отдать меня в чужой дом, как тебе не стыдно. Он входит к матери, она умирает, ей трудно говорить, и она просит его наклониться к ней поближе. Он наклоняется и слышит, как мать говорит: «Как это я так быстро состарилась?»
Не люблю вспоминать. Когда про войну пишут что-то хорошее — это не про войну — это вспоминают свою молодость. Война — это голод, холод, смерть, стоны раненых, сожженные деревни, вши, грязь, запах теплой крови на твоих руках, запах гниющих лошадиных и людских трупов на полях, тяжелые носилки с ранеными, которые надо поднимать на полуторки — это фронт, где мне пришлось быть два года. А были еще бомбежки в Москве, эвакуация и много другого, о чем вспоминать, честно говоря, совсем не хочется.
Почему решила что-то написать? Перед 60-летием Победы одна молодая женщина сказала мне:
— Не представляю, как это Вы, такая маленькая, хрупкая женщина, два года ползали по полю, перевязывая раненых.
Представление о войне тех, кто на ней не был, довольно странное. Может быть, мои скудные воспоминания оставят след у тех, кто прочтет все это (если прочтет) и всегда будет только бороться за мир.
Станислав Говорухин (актер, режиссер, депутат Госдумы) как-то сказал очень правильную фразу: «Война страшна своей обыденностью».
А недавно еще внук спросил меня: «Ты пишешь воспоминания? Пиши, я вот не представляю, как вы жили без мобильников». На что я ему ответила, что мы жили и без телевизоров с одной черной тарелкой на всю коммунальную квартиру. «Какой тарелкой?» — удивился он.
Итак, война. В Калинине (был такой город — сейчас Тверь), где я жила вдвоем с моей дорогой бабушкой, в 1941 году я окончила 9 классов в школе на Набережной, и на каникулы мы поехали в Москву к старшей дочери моей бабушки. Моя мама была младшей дочерью (как я оказалась только с бабушкой — это отдельная история). У тети Соры (ее звали Серафима, но почему-то это имя ей не нравилось, и она звалась дома Сорой) была дочь Люся — моя двоюродная сестра на 3 месяца старше меня.
Тетя Сора, Люся и дядя Павлуша жили напротив Пятницкого рынка в Пятницком переулке, рядом с метро, которое только еще строилось — Новокузнецкая. Сейчас этот дом сломали.
В квартире жило еще 4 семьи. Вход был через кухню, и почти всегда дверь была открыта. У тети Соры было 2 маленьких комнатки, и мне всегда казалось, что когда мы с бабулей приезжали из своего Калинина, она не очень радовалась этому. А моя дорогая бабушка, наоборот, все время хотела как-то объединиться со старшей дочерью и ее семьей.
Люся была очень красивой девочкой, а я на правах золушки.
Вот в этой квартире в Пятницком переулке и висела черная тарелка над дверью в одной из комнат — большой круг на какой-то дурацкой подставке, обтянутый плотной черной бумагой. Так выглядело в 1941 году наше радио. Не помню, о чем были передачи, помню только, что когда передавали прогноз погоды, почему-то все, кто жил в этой коммунальной квартире бежали к репродуктору (так называлась тарелка) и кричали: «Тихо, тихо, погоду передают», — и, прослушав прогноз погоды, с удовлетворением расходились по своим комнатам.
Вот из этой черной тарелки 22 июня 1941 года мы и узнали, что началась война. Взрослые плакали. Бабуля была в ужасе, а мы с сестрой в каком-то радостном возбуждении кричали: «Война, война, мы идем на фронт, защищать Родину!»
На второй день войны мы с Люсей, ничего не сказав дома, помчались в военкомат.
Лучше всего про то время сказала Юлия Друнина:
С восторгом нас, девчонок не встречали.
Нас гнал домой охрипший военком.
Так было в сорок первом…
А медали и прочие регалии – потом и дальше:
Смотрю назад в продымленные дали –
Нет, не заслугой в тот зловещий год,
А высшей честью, школьницы считали
Возможность умереть за свой народ.
Конечно, в военкомате нас прогнали, кому нужны неумелые девчонки 16 лет.
На другой день я отправилась в райком комсомола и написала заявление на курсы снайперов. «Иди, девочка, учись, кончишь десять классов, потом поговорим, а сейчас запишись во дворе, можно во время бомбежек тушить зажигательные бомбы» — было сказано мне. Много лет спустя, когда уже давно кончилась война, я почему-то с ужасом вспомнила свое заявление на курсы снайперов и подумала, как бы я смогла жить, если на моем счету было бы 320 или 410 убитых немцев, если бы меня взяли на эти курсы. Как все в жизни относительно, и как все меняется.
Зажигательную бомбу мне пришлось потушить только один раз. Она была совсем нестрашной, шипела как бенгальский огонь и была совсем маленькой. Деревянными щипцами я бросила ее в бочку с водой, и на этом мой боевой подвиг закончился. Когда я под утро заявилась с дежурства домой, моя дорогая бабушка лежала и умирала. Мне было заявлено, что если я хочу ее смерти, то буду ходить на дежурства по ночам. А если у меня хотя бы осталось немного совести, то я не буду собирать осколки от зениток, а буду сопровождать (так и было сказано) бабулю в бомбоубежище, которое было в недостроенном метро, где вместо эскалатора были деревянные ступени до самого низа, и бабуля одна не могла по ним спуститься.
И вот, как только из репродуктора доносилось сначала какое-то щелканье, а потом голосом Левитана: «Воздушная тревога, воздушная тревога», – мы отправлялись в недостроенное метро. Спускаться было еще ничего, а когда по радио передавали отбой, и нужно было идти вверх черт знает сколько деревянных ступеней, я начинала понимать, что моя дорогая бабушка вряд ли без моей помощи сможет выбраться наверх. Ведь с собой в бомбоубежище еще нужно было брать одеяло (было очень холодно под землей), воду и какую-нибудь нехитрую еду. По дороге домой мы все равно собирали осколки от зенитных снарядов и потом хвастались, у кого их больше.
После того, как бомба упала где-то близко, на Пятницкой были разбиты стеклянные витрины в магазинах, и, выйдя из бомбоубежища, мы увидели, что люди с ужасом бежали кто куда, кого-то перевязывали, и текла кровь, стало понятно, что игра в войну кончилась. Начались будни войны – нужно было по три-четыре часа стоять в очереди за хлебом – чернильным карандашом на руке писали порядковый номер, Надо было занимать очередь за керосином, почему-то сразу пропали соль, сахар, где-то нужно доставать картошку.
Бомбежки стали чаще, школы не работали, мы не учились. Стало голодно и холодно. Вся наша коммунальная квартира собиралась на кухне, где горели керосинки, на которых что-то варилось, и можно было погреться хоть немного. Как ни странно, жили мы дружно.
В октябре 1941 года, когда немцы подходили к Москве, нас с сестрой повезли в эвакуацию. Почему-то мы поехали на пароходе, сначала по Москве-реке, потом по Волге.
Помню, что было очень тесно в каюте, холодно и голодно. Ехали долго.
Очень трудно писать про войну. Что-то забылось, что-то не хочется вспоминать. И все же: мы уехали из Москвы с тетей Марусей, племянницей моей бабули, которая была тогда партийным работником в Рязани и должна была эвакуировать детский дом. Она взяла нас с собой. Нас было четверо: бабуля, я, Люся и тетя Сора.
Люсин отец дядя Павлуша должен был уехать позже с каким-то военным заводом в Златоуст, а мы отправились в Челябинскую область на маленьком пароходике.
Помню, что было очень холодно, и все время хотелось есть. Почему-то запомнились два города: Куйбышев, там жил брат тети Маруси дядя Володя, который работал на авиационном заводе, он был известным авиационным инженером. У него была большая квартира на 4 человека семьи. Я была очень зацикленным ребенком, и мне почему-то казалось, что большой радости своим появлением мы никому не доставили, хотя дядя Володя и его жена были добры к нам, и мы с сестрой даже 2 недели проучились в школе.
В Куйбышеве запомнилось долгое стояние в очереди за хлебом и кислым творогом по 4-5 часов с обязательным номером на ладошке, написанным чернильным карандашом.
Скудная наша добыча доставляла радость всей семье.
И еще запомнилась Уфа. Мы опять приплыли на пароходе. Те, кто был в Уфе, знают большую гору, на которую надо взбираться, чтобы попасть в центр города. Там был центр для эвакуированных, куда мы и отправились за талонами на еду. Гора, на которую мы еле-еле взобрались, была обледенелой, и обратно на пристань мы просто скатились, что нас, дурочек, очень развеселило.
После всех мытарств каким-то образом мы оказались вместе с детским домом в поселке Касли Челябинской области. Поселились на улице Памяти 1905 года, дом 39, в частном доме, где хозяйкой была Тоня — инвалид с детства — у нее были парализованы ноги, и передвигаться она могла только на руках.
Очень хорошо помню свое первое утро. Мы приехали поздно и нас уложили спать на русской печке. После трудного переезда мы с Люсей сразу заснули, а когда я проснулась, то услыхала:
— Ох-ох-ох, кого кушать будем? Кушать некого.
Через пять минут опять:
— Ох-ох-ох, кого пилить будем? Пилить некого.
Это Тоня расстраивалась, что есть нечего, и нет дров истопить печку.
Так началась моя жизнь в Касли, где я окончила 10 классов на отлично по всем предметам и получила аттестат, где было написано: «На основании постановления Совета народных комиссаров СССР и центрального комитета ВКП(б) от 3 сентября 1935 года Терская Лидия Владимировна пользуется правом поступления в высшую школу без вступительных экзаменов» и дата: 5 июня 1942 г.
Как мы жили, трудно представить. Бабуля и тетя Сора работали в детском доме. Меняли какие-то вещи на картошку. В мои обязанности входило обеспечение водой нашего дома. Воду нужно было носить из проруби на озере на коромысле. Вначале у меня плохо получалось, и я приносила половину ведер. Но очень скоро я научилась, и надо мной перестали смеяться местные ребята.
В школе нас встретили хорошо. Помню, на праздниках ребята подходили ко мне и нараспев говорили: «Пошли-те, потанцуем-те». Такой специфический уральский говор, и я уже не боялась, что нас с Люсей распилят или съедят.
Школьная жизнь была напряженной. По окончании школы я получила справку, что могу быть сандружинницей. С каким старанием мы учились накладывать шапку Гиппократа и делать колосовидную повязку на голень. Все это совсем не пригодилось на фронте, где чаще всего нужно было индивидуальным пакетом заткнуть рану, чтобы не текла кровь.
Еще мы кончили курсы трактористов, и у меня был документ, что я могу водить трактор. Еще мы после учебы ходили на завод, где делали болванки для снарядов и перекладывали их в ящики, после чего руки были все в крови, так как болванки еще не были гладкими.
Весной мы ездили на заготовку дров и ручной пилой пилили большие деревья. Недавно я вспомнила об этом. Когда на даче нужно было спилить старую сосну, сын — взрослый мужчина — помогал рабочим. А я с ужасом смотрела на эту пятиминутную операцию, переживая, чтобы сосна не упала на него.
В Касли был госпиталь, и в свободное время мы ходили к раненым. Кормили тех, у кого не было рук, писали письма, читали газеты.
Недавно я нашла старые письма, которые мне писали одноклассники в Касли. Вот несколько слов из писем. Пишет Лебедев Володя:
«Я не знаю, кто из нас поступил правильно, но не хотел тебе писать этого. Замучены сволочами немцами в гестапо Женя Инзер, Юра Иванов, Женя Логунов. Ты только особенно не расстраивайся. Ребята погибли смертью героев. Их хоронил весь город. Такая смерть почетна. Они погибли за нашу родину».
Письмо написано 11 апреля 1942 года.
Эти письма нельзя читать без слез. Вот Женя Михайлов пишет в это же время:
«Я хочу быть артиллеристом или танкистом или летчиком – напиши, кем мне быть. А тебе советую быть инженером или конструктором».
Письмо из 10 класса, через 6 месяцев он был на фронте, кем — не знаю. Вот такие наивные дети уходили на фронт.
В школе у меня был друг Юра Пастер. Он на год был старше меня, и когда началась война, сразу оказался на фронте. Почему-то наши письма не доходили друг до друга, и Юра писал моей бабуле. Он был в ужасе, что я отправилась на фронт, и в каждом письме повторял одно и то же, что это безумие. Последнее письмо от него бабуля получила от 15 октября 1943 г. А потом бабуля получила письмо от мамы Юры: «Юрочка, мой дорогой мальчик, погиб в боях за родину 29 октября и похоронен в селе Дубове. Его наградили орденом Отечественной войны, и орден погиб вместе с ним. Жизнь моя кончена».
Вот такое было наше время. Когда я вижу на Арбате молодых людей, торгующих орденами, мне становится страшно.Не писала два месяца. Очень трудно все это вспоминать. Может быть, бросить, кому это все нужно?
С большим трудом и большими перерывами пишется про войну. Лучше напишу про 9 мая 2007 года.
Два года подряд я получаю приглашение на торжественный прием в Кремль к Президенту. Почему, не знаю. Думаю, что кто-то из моих высокопоставленных пациентов внес мое имя в список приглашаемых на прием.
В 2006 году, посмотрев парад на Красной площади, я через Спасские ворота пошла во Дворец съездов. По дороге ко мне обратился старенький генерал, весь увешанный наградами. Он попросил:
— Можно, я подержусь за Вас. Очень неудобно идти по брусчатке.
— Конечно, конечно, — сказала я, и мы с ним очень медленно дошли до Дворца Съездов. Когда я сняла свой плащ, он, увидев у меня значок «Фронтовик», вдруг как-то смутился и спросил:
— Можно мне поцеловать Вам руку?
— Почему? — удивилась я.
— Знаете, Вы были на фронте, а сейчас очень многие к нам примазываются, которые и не нюхали пороху. Этот значок, который у Вас, его дали только тем, кто участвовал в боях.
После такого высказывания я с уважением стала относиться к этому значку, тем более, что небольшая звездочка очень хорошо смотрелась на темном платье.
В следующем году я вновь получила приглашение, где было написано (дословно) Президент Российской Федерации В.В.Путин просит Л.В.Терскую (это меня-то просит!) пожаловать на торжественный прием по случаю празднования 62 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в среду. 9 мая 2007 года, в 12.00. Внизу маленькими буквами – Государственный Кремлевский Дворец, Банкетный зал. Была еще указана форма одежды: мужчины в темных костюмах, женщины в платьях обычной длины (вот был бы номер, если бы я вырядилась в мини-юбку), военные в форме и с наградами.
Собираясь на прием, я нашла значок «Фронтовик» и нацепила его на свой новый костюм.
На параде было очень холодно. Мой легкий плащ совсем не защищал от холода. Рядом со мной сидел какой-то моряк, который приехал из Петербурга специально на парад и все время ждал, когда пойдут его моряки. Посмотрев на меня, он вдруг сказал:
— Вы совсем замерзли, может, мне Вас обнять?
Я ему ответила, что удовольствие ему это вряд ли доставит – ведь я старая (всегда стараюсь всем объявить о своем возрасте – надо это прекратить), на что он мне ответил:
— Я же не для удовольствия, а для сугрева.
Мы посмеялись и какое-то время сидели, прижавшись друг к другу. После парада в раздевалке Дворца Съездов я встретилась со Светланой Савицкой (моей пациенткой). Она сняла пальто, и я увидела у нее две звезды Героя.
— Света, я никогда не видела твоих наград, как здорово! Ты всегда носи их, — смеясь, сказала я ей, — а я тоже со звездой.
Снимаю свой плащ и вижу, что значка у меня нет. Вот, думаю, не надо было прижиматься к моряку-то. Расстроилась я ужасно. Все стали меня утешать, что значок можно восстановить, но настроение было испорчено.
Грустная, я нашла свой стол, за которым уже сидели трое мужчин. Двое штатских и один военный, увешанный, как и все военные, медалями и орденами.
Мы познакомились. Мой сосед, очень приятный, вежливый мужчина, сказал, что они из Академии, что его соседа зовут Марат (какое редкое имя), а фамилия Вам, наверное, известна — Баглай. К своему стыду, я не знала, кто это. Военный сказал, что его зовут Владимир Иванович.
Мой сосед проявил внимание и стал расспрашивать меня, почему на таком торжественном приеме я ничего не ем и сижу грустная. Я рассказала о своей потере.
— Значок такой, как у Владимира Ивановича? — поинтересовался мой сосед.
— Да, — сказала я.
И вдруг Владимир Иванович говорит:
— Эта беда поправима. Я работаю в Совете ветеранов на Арбате. Знаете, там есть памятник Окуджаве. Вот рядом с ним в переулке моя работа. Вы придете с документом, и я Вам из своего стола дам такой значок.
— Спасибо, — сказала я, а про себя подумала: «Старая я дура, и зачем мне нужен значок и зачем я пойду в Совет ветеранов».
И вдруг Марат говорит:
— Отдай женщине значок. Видишь, дама расстроена.
Владимир Иванович как-то растерянно говорит:
— Надо подумать.
Два моих соседа набрасываются на него:
— Ты мужик или не мужик? Отдай значок — себе из стола возьмешь!
И Владимир Иванович отдал мне значок, за что ему большое спасибо и моим соседям по столу тоже.
А приглашение на прием у меня лежит под стеклом на серванте рядом с портретом В.В Путина в костюме времен Франциска I /Никас Сафронов/. Вырезку из журнала подарил мне старший сын Олег, зная мое пристрастие к нашему президенту. Очень здорово смотрится. Всем, кто приходит ко мне, нравится.
Итак, все-таки война.
Осенью 1942 г мы с моей дорогой бабушкой переехали в Златоуст. Тетя Сора не была в восторге. Жить было трудно. Люся работала в госпитале, у нее было много поклонников.
Дядя Павлуша работал на военном заводе, где стала работать и я. Сначала клепальщицей — на пулеметных лентах надо было на станке делать заклепки, а потом меня «повысили», и я стала оператором на коммутаторе. Продолжалось все это недолго, потому что с первых дней приезда в Златоуст я отправилась в военкомат со своим заявлением — отправить меня на фронт. Люся пошла вместе со мной и сказала, что она тоже хочет на фронт.
В январе 1943 г. пришли повестки — явиться в военкомат. Бабуля была в ужасе. Я написала отцу, который в это время служил в Канске. Однажды, придя с работы домой, я увидела бабулю всю в слезах, она держала в руках телеграмму, плакала и приговаривала «Какой негодяй, какой подлец!» «Бабуля, что случилось?» — закричала я. Она протянула мне телеграмму =ГОРЖУСЬ ТОБОЙ ЦЕЛУЮ ПАПА= — это был ответ на мое письмо, что меня наконец-то берут на фронт.
Это была вторая телеграмма, отправленная папой, которая поразила мою бабушку. Отец, которого я очень любила, уезжал из Калинина, когда я лежала в больнице со скарлатиной и тяжелым осложнением на почки.
Его перевели на Дальний Восток. Я училась в 5 классе, и мы жили с бабулей на деньги, которые присылал папа. Бабушка не работала, она оберегала, кормила и любила меня. Так вот, когда меня выписали из больницы, бабуля носила меня на руках – я была такая плохая, что сама не могла ходить. От отца месяца три не было никаких известий – ни писем, ни денег. Не представляю, как моя дорогая бабуля выкручивалась.
Наконец, пришла телеграмма: =ПРОШЛИ ЛАПЕРУЗА ЦЕЛУЮ ПАПА=. Бабуля плакала, что такое лаперуза, мы не знали, она решила, что отец сошел с ума, и непонятно, как теперь мы будем жить… Дня через три пришел перевод, а наш сосед сказал, что Лаперуза — это очень тяжелый пролив, и когда пароход его проходит, все радуются и дают телеграммы своим близким.
Еще один раз я видела бабулю плачущей уже значительно позже. У меня собрались друзья, мы засиделись за столом допоздна. Вдруг в комнату входит бабуля вся в слезах. Я в ужасе кричу: «Что случилось?» — и в ответ слышу: «Кеннеди убили».
Мы звали нашу бабушку «Громыко» (тогда это был такой министр иностранных дел). Она всегда читала газету «Правда» и слушала по радио последние новости.
Когда мы отправились на фронт, бабуля не ела, не пила три дня и все время плакала.
Мы поехали в Чебаркуль. В вагоне ехал с нами пожилой военный. Он с какой-то жалостью смотрел на маленьких глупых девчонок и все время говорил: «Не надо вам никуда ехать, какой вам, соплюшкам, фронт, и какой дурак вам дал это направление».
Мы в Чебаркуле, где готовили военных для направления на фронт. Все военные всегда пишут о направлениях, командирах — я ничего этого не знала. Знала только, что мой полк из больших пушек и номер у него 1307. В полку 3 дивизиона, у каждого дивизиона 3 батареи, у каждой батареи есть свой санинструктор. У дивизиона, где командир капитан Боев в третьей батарее, санинструктор я.
Началась учеба. Пришел рыжий грузин, уже побывавший на фронте, по фамилии Турманидзе, собрал всех девчонок и заявил:
– Будем изучать винтовку. Из чего она состоит? Из деревяки, железяки и ремняки.
И все в том же духе.
Спали мы на нарах в землянке. Девчата были все взрослые. Вечером все прихорашиваются, берут стеклянные баночки, спичками коптят дно, а потом, намотав на спичку ватку, мажут себе глаза и брови. Я с ужасом смотрела на все эти приготовления. Прежде чем отправиться на фронт, я отрезала косы и в зеркало даже не смотрелась. Мне казалось, что во время войны, когда убивают твоих товарищей, не до красоты.
Кормили нас плохо. У меня начали шататься зубы, на ногах появились какие-то красные пятна. Наш врач полка (который кончил только 3 курса института) сказал мне:
– Ты сменяй пальто, в котором приехала, на лук — тут тетки приносят. Иначе у тебя будет цинга.
Я так и сделала.
Через две недели за Люсей приехал отец, чтобы забрать ее домой. Она мне ничего не говорила, а домой писала, что она очень красивая, все мужчины на нее бросаются, что она тут умрет в этих условиях (первое предательство в моей жизни). Когда дядя Павлуша ее увез, я всю ночь тихо проплакала, очень было страшно, все девчонки были намного старше, подруг не было. «Я должна все это выдержать», — повторяла я по несколько раз в день.
Помню, нас собрал врач полка на инструктаж — завтра поход 50 км. Ваша задача – смотреть, как наматывают бойцы портянки, чтобы не было потертостей в походе.
Не помню, были ли потертости у моих бойцов, но когда я сняла сапоги после похода, все ноги были в крови. Сапоги 42 размера, а у меня 35 размер обуви. И опять в голове только одно: «Война — я должна все выдержать».
Такое сознание было не только у меня. Вспоминается девочка телефонистка 20 лет, которую привезли к нам, когда я была уже в госпитале. Она была очень больна, не ранена, а больна: или почки, или сердце — огромные отеки по всему телу и еле дышала. С большим трудом она говорила:
– Ой, как стыдно болеть, у вас столько раненых. А вы возитесь со мной, девочки. У меня в мешке чистые трусики, наденьте мне, а мамочке напишите, что меня убили, пожалуйста.
Ночью она умерла.
Итак, Чебаркуль. Перед отъездом на фронт нам выдали большие сумки с красным крестом, противогаз, винтовку. У меня сохранилась книжка, где было написано: вес 42 кг, имущество: гимнастерка, юбка, сапоги кирзовые размер 42 и т.п.
В санитарной сумке были только индивидуальные пакеты, бинты и порошки, на которых я писала: «от головы», «от живота» — познания мои в медицине были очень скудными.
В моем дивизионе было три батареи, и у каждой батареи три пушки и солдаты, которые стреляли из этих пушек. Почему-то в этих расчетах совсем мало было русских. Казахи, узбеки, татары, таджики, азербайджанцы, многие не знали русского языка. Мне запомнилось, как черные мальчишки подходили ко мне и, показывая на живот, говорили:
– Лидя курсак сабсем пропал, – а я доставала им порошки, где было написано «от живота» и ругала:
– Опять пил воду из лужи?
– Пил, пил, – согласно кивал мальчишка головой.
Они были мои ровесники, и мы с ними легко находили общий язык.
Постепенно я привыкала к этой жизни, к ночным подъемам, к своим солдатикам, которым было, по-моему, хуже, чем мне. Большинство из них были с юга и плохо переносили холод.
И вот, наконец, мы едем на фронт.
Большой товарный состав. В вагоне нары в два этажа, на которых мы спим. Состав большой — два полка в бригаде, еще полк 1303. Мои страхи в поезде: я не боюсь, что меня могут убить, у меня один страх — до войны я никогда не видела мертвых. Когда у меня умерла мама, мне было 7 лет, и моя дорогая бабуля сказала, что не надо травмировать девочку, — пусть мама останется в ее памяти живой. И вот я еду на фронт, где обязательно будут мертвые, а вдруг я упаду в обморок? Вот единственный страх, который был у меня не потому, что я была смелая, а потому, что была маленькая и глупая. 18 лет мне исполнилось в Чебаркуле, и никто не вспомнил об этом.
Ехали мы долго. Все военные пишут в своих воспоминаниях о направлении наступлений, о своих командирах. У меня почему-то другие воспоминания. Помню большую станцию Поныри. «Какое странное название», — показалось мне. Много стоит эшелонов. Вдруг высоко в воздухе появляется маленький самолетик — все кричат: «Рама, рама, сейчас бомбить будут». Мне непонятно, что такое «рама». Уже значительно позже я узнала, что так называли немецкий самолет-разведчик.
Первая бомбежка была в Ливнах, где наш эшелон разгружался. Оказывается, это была Курская дуга.
Вчера наша главная по подъезду принесла мне подарок — фильтр для воды (выдавали всем ветеранам Курской дуги). Открыв коробку, я нашла в ней розовую бумажку с двуглавым орлом, где было написано:
«Уважаемый ветеран! Примите сердечные поздравления от управы района Хамовники по случаю 64 годовщины Курской битвы. Курская дуга стала символом мужества и воли советского солдата. Вы с честью выполнили свой долг перед Отечеством, отстояли свободу и независимость нашей Родины. В послевоенные годы Ваши силы были направлены на восстановление мирной жизни страны. Вы и сегодня в строю тех, кто свято хранит лучшие боевые, трудовые и нравственные традиции нашего народа. От всего сердца желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа и жизненного оптимизма, счастья и благополучия! С уважением Исполнительный комитет районного отделения партии «Единая Россия» Управа района Хамовники».
Вот жизненного оптимизма мне как раз и не хватает сейчас. Спасибо за пожелания.
После того, как мы разгрузились в Ливнах, до конца войны я передвигалась только на полуторках в кузове. По железной дороге я поехала только домой из Германии.
Я — санинструктор в дивизионе у капитана Боева в 68 артбригаде, которая печально знаменита еще и тем, что в ней служил и был арестован А.И Солженицын.
Не буду примазываться к чужой славе — я его не помню на фронте, и арестовали его уже тогда, когда я была в госпитале. А вот капитана Боева (он в 1943 году был еще капитаном) помню очень хорошо, ему было тогда за 30 лет, он уже воевал и все с большим уважением относились к своему командиру. Звали его Паша.
Майор Боев погиб в Восточной Пруссии. Когда кончился бой, бойцы нашли тело командира. На его груди ножом был вырезан вместе с орденами кусок кожи и гимнастерки. Похоронен майор Боев в Либштадте. Если сохранилась могила, поклонитесь Паше. Он был достойным человеком. В это время я была уже в госпитале, и о гибели Боева узнала уже после войны от своих однополчан.
Война — это тяжелый изнурительный труд. Все время хочется спать, на сон 3-4 часа в сутки. Помню когда мы приезжали на новое место, а шло наступление и все время приходилось переезжать. Раздавалась команда: «Сон — 2 часа». Все снимали свои шинели, бросали их на землю. Вповалку ложились, прижимаясь друг к другу, чтобы было теплее, сверху укрывались другими шинелями — быстро спать! Как-то, когда все улеглись, мне стала мешать какая-то палка, о чем я громко и заявила солдату, который лежал рядом со мной: «Зачем ты взял палку». Хохот стоял дикий. Бедный солдатик вскочил с уютного ложа. Я ничего не понимала, почему все смеются. В нашей батарее был солдат Усманов (до сих пор помню его фамилию), он был пожилой, лет 45-50, на гражданке был директором школы, и всегда, когда мы располагались на такой «отдых», он говорил мне: «Дочка, иди ко мне под бочок. Я старый и палок с собой не беру». И все опять смеялись. И опять я ничего не понимала.
В наше время сейчас трудно в это поверить, как в том анекдоте: двое внуков спрашивают у бабушки: «Откуда мы взялись?» – «Тебя, Миша, нашли в капусте, а Сережу аист принес». Когда бабушка вышла, один карапуз говорит другому: «Сказать бабке или пусть так дурой и умрет?». Мы были другими.
В мои обязанности санинструктора входили ежедневные обходы батарей, которые располагались друг от друга в 3-4 километрах, смотреть, чтобы не было больных, менять перевязки легко раненым, которые не хотели уезжать в госпиталь, посыпать гимнастерки дустом от вшей и кормить бедных солдат порошками «от живота», «от головы». А во время обстрелов или бомбежек перевязывать раненых и скорее их любыми путями и средствами переправлять в санчасти полка, откуда шла эвакуация раненых в медсанбаты.
Ночью очень страшно было идти по лесу от батареи до батареи. Еще раз вспомню Говорухина «война страшна своей обыденностью».
В одной батарее у меня жила раненая лошадь Сивка-бурка. Я наложила ей шину и перевязала раненую ногу. Лошадка ко мне привыкла и, когда я подходила к батарее, на трех ногах меня встречала, а я приносила ей кусочек хлеба или сахар. В один из моих приходов к солдатам Сивка-бурка не вышла ко мне навстречу. У костра сидели довольные вояки, на костре что-то варилось, и все из котелков с удовольствием поедали варево.
– Лидя, иди махан кушать, – позвал один из ребят. Они сварили мою Сивку-бурку.
Я плакала навзрыд и никак не могла успокоиться, а ребята смеялись надо мной и говорили, что лошадь на трех ногах – все равно не лошадь. Из нее только можно махан сварить.
После того, как наш эшелон разгрузился в Ливнах, началась настоящая война. Не буду выдумывать названия деревень, которые мы проезжали, я их не помню. Помню, что когда мы проезжали деревни, не было домов, стояли одни печки с трубами, и из подпола вылезали замученные, голодные жители этих деревень. Помню повешенных подростков с надписью «партизан» на дощечках, надетых на шею. Помню большое количество трупов лошадей и людей, как наших, так и немецких — специальные отряды не успевали убирать поля после боев. И в обморок я не падала ни разу. Один раз меня вырвало от трупного запаха, а один солдат сказал: «Подумаешь, цаца», — и мне стало стыдно.
Сознание «Все надо перетерпеть – война» не покидало меня.
В самом начале боев была у меня история, о которой, наверное, надо вспомнить. Я привыкла к своему дивизиону, все солдаты и командиры меня знали и радовались, когда я появлялась у них в поле зрения. Кто — просто меня жалел, кто — вспоминал своих детей. К поясу у меня был привязан котелок, в сапог спрятана ложка, и когда я появлялась, все старались меня накормить.
Как-то меня вызвали в медсанчасть, и младший врач полка Корчагина сказала, что я поступаю в распоряжение командира полка.
– Зачем?
– Это не твое дело, он приказал, чтобы тебя доставили на командный пункт.
– Я не хочу, я не буду, – сразу сказала я.
– Ты что, захотела под трибунал? – спросила меня капитан медицинской службы. – Ты солдат, и приказы командира полка не обсуждаются.
Под трибунал я не хотела. В памяти была страшная картина, когда молодого мальчишку приговорил трибунал к расстрелу за то, что он прострелил себе руку, (называлось самострел). Выстроили всю бригаду и нас заставили всех смотреть, как убили (то есть расстреляли изменника родины) маленького мальчишку, наверное, моего ровесника, которому было страшно на фронте, и он хотел попасть в госпиталь. Трибунал – это страшно.
Итак, я отправилась на командный пункт.
– Товарищ майор, санинструктор прибыла по вашему распоряжению.
До сих пор я не могу понять, почему командиру полка пришла в голову мысль обзавестись собственным санинструктором, и почему именно я. Были же в полку здоровые красивые девчонки.
С утра до вечера командир полка на виллисе. Я должна была быть в машине вместе с ним. Через какое-то время я стала замечать косые взгляды наших солдат. Ведь девчонок, которые разъезжали в командирских машинах, называли презрительно ППЖ — полевая подвижная жена.
Жили мы в одной землянке — командир полка, его замполит, адъютант, шофер и повар. Началось с того, что майор спросил меня, что я хочу на обед. На это я ответила, что рядом стоят солдаты, приезжает полевая кухня, и я буду ходить с котелком к ним. Ничего плохого майор мне не сделал, я даже не знала, как его зовут, каждый вечер я начинала просить его отпустить меня в батарею. Еду, которую готовил повар, я не ела и часто ходила голодной. Спать ложилась с шофером и адъютантом, объясняя майору: я солдат и должна соблюдать субординацию. Майор смотрел на меня как на идиотку.
Так прошло три недели. Его замполит был очень плохой дядька, он с презрением смотрел на меня, и, не стесняясь, говорил:
– И что он в тебе нашел — ни кожи, ни рожи (и он был прав — ни кожи ни рожи и вес 42 кг), что ты выкобениваешься, такой человек обратил на тебя внимание.
Я все время думала, что же делать, и доказывала майору, что я в батарее нужна, что на командном пункте мне делать нечего.
– А если меня ранят, – спрашивал майор.
– Вас перевяжет или адъютант или шофер, и сразу привезут в санчасть, – отвечала я.
В конце третьей недели вечером мы с майором долго разговаривали.
– Как ты попала на фронт? – поинтересовался он.
Я рассказала ему про убитых одноклассников, что долго ходила по военкоматам, что жила с бабушкой и после войны буду учиться в институте, каком — еще не знаю.
После войны меня без экзаменов как отличницу приняли сразу в МАИ, Менделеевский и Бауманский.
Мы долго говорили.
– Почему ты не хочешь быть моим саниструктором?
– Потому что все думают, что я ППЖ.
Майор долго смеялся.
– А ты не хочешь быть ППЖ?
– Не хочу.
Майор долго думал, а потом вдруг сказал:
– Хорошо, тебя завтра отвезут в санчасть, будешь помогать Корчагиной, а с солдатами тебе нечего делать. Согласна?
– Конечно, – обрадовалась я.
И на следующий день я счастливая прибыла в санчасть. Было много раненых, их надо было перевязывать и срочно отправлять в медсанбаты.
Через три дня виллис, с которого я не слезала три недели, подорвался на мине. Противный замполит был отправлен с тяжелым ранением в тыл. Шофер и адъютант погибли. Поистине пути Господни неисповедимы. Майора Юферова убило сразу. Его привезли в медсанчасть, он лежал на походном столе, где перевязывали раненых, и вся бригада приходила прощаться с ним. Похоронили его в этот же день, шло наступление, и надо было спешить.
50 лет спустя Марк Львович Фукс, который был в то время командиром дивизиона (как Боев), а потом стал нашим другом — моим и моего мужа, после очередного застолья на кухне спросил у меня:
– Скажи, Лиля, а все-таки какие отношения были у тебя с Юферовым?
Я ему ответила:
– Марк, не было отношений, – и почему-то хотелось добавить: «к сожалению». Жалко майора Юферова, его хоронила вся бригада, и было ему, наверное, чуть больше 30 лет.
Итак, медсанчасть полка 1307 68-й артбригады. У меня начальник — молодая женщина капитан Корчагина.
И я счастлива. Много работы. Всех раненых волокут в санчасть, кого на плащпалатках, на самодельных носилках, кто ковыляет сам, и всех нужно перевязывать.
В санчасти со мной был еще один медработник, Жора Супрун. У него было среднее медицинское образование. Он был хорошим фельдшером, но очень странно вел себя во время обстрела или бомбежек: ложился на пол, складывал руки на груди и лежал, как мертвый. У него была какая-то группа инвалидности, поэтому его не отправляли на передовую. Когда было много раненых, я крутилась одна, как белка в колесе, и орала на него, била, щипала, пыталась заставить встать и работать – все было безрезультатно. Когда кончался обстрел, он опять становился нормальным человеком.
Как-то в свободное время мы с ним разговорились, и он рассказал, что был на передовой дважды. Один раз его подстрелил снайпер, и пуля прошла над сердцем, не задев важных органов и сосудов, и вышла под лопаткой. Осталось два маленьких шрама, которые он мне показал. Жора попал в госпиталь, но очень быстро поправился, и через три недели снова был в пехоте на передовой. Второй снайпер попал ему в щеку. Пуля вышла с другой стороны, выбив несколько зубов. И опять два маленьких шрама, три недели в госпитале, и снова пехота на передовой. Действительно, можно было сойти с ума.
– После этих двух ранений у меня в голове что-то сдвинулось, – сказал Жора, и я больше не злилась на него, мне было его жалко.
В медсанчасти вначале было страшно, ведь ранения были всякие. Лежит раненый на земле, его очередь брать на перевязку, поднимаешь гимнастерку, а весь кишечник вылезает из раны, да еще шевелится. От страха закричать хочется,и опять я твердила себе: «Ты должна все выдержать — это война». А когда накладывалась повязка, и рана забинтовывалась, страх проходил, и нужно было как-то успокоить, напоить и ободрить бедных солдатиков.
Читайте продолжение:
Страшный приговор
Воспоминания передал для публикации сын автора
www.world-war.ru