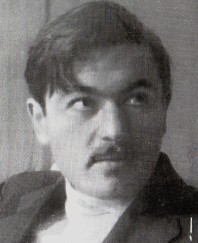Мой блокадный университет
Людмила Леонидовна Эльяшова — выпускница экономического факультета Ленинградского университета. В годы войны и блокады была студенткой. После его окончания — преподаватель Кораблестроительного и многие годы Политехнического институтов.
Как ни странно, война для нас, студенток одной из комнат университетского общежития, началась много позже, чем для всех, — только вечером 22 июня 1941 года. При лучезарной погоде предыдущего дня, соблазнившей нас готовиться к экзаменам на свежем воздухе — в Летнем саду.
Мы уселись у центральной клумбы, вынули толстые учебники истории СССР, но глаза наши почему-то смотрели не в книги, а на освещенные солнцем липы, статуи, цветы… От истории нас отвлекали новые собеседники, мечты о скорых каникулах, рассуждения о вольной студенческой жизни, испорченной, правда, сессией в лучшее время белых ночей.
И случилось так, что учебники захлопнулись, и мы допоздна бродили по набережным Невы, утешая себя тем, что пропустить чудо белых ночей — преступление.
Зато на следующий день, искупая свои вчерашние грехи, мы рано встали, выключили радио, закрыли на ключ дверь комнаты — никому не открывать, положили на стол кулек леденцов — для лучшей мозговой деятельности и истово занимались. Лишь вечером открыли, наконец, дверь на очередной стук соседки. «Вы занимаетесь? — удивилась она. — Ничего не знаете? Война».
Все сразу изменилось. Я тут же поехала к единственной моей ленинградской родне — бабушке и тете. Еще совсем недавно в нашем городе в квартире на Таврической улице жила наша семья, и мы нередко ходили в гости к другим своим родственникам. Ветер времени, особенно 37 года, одних развеял по стране, других — унес из жизни.
Давно умерла моя бабушка Агапия Афанасьевна, родившая маму и девять других детей, а ее старшая сестра Васса Афанасьевна, бабушка Сюта, как мы ее называли, здравствовала, проживая на Надеждинской улице в большой коммунальной квартире. Она всю жизнь проработала на фабрике «Треугольник» и заработала маленькую пенсию и 7 метровую комнатку, где ютилась с племянницей, нашей тетей Леной. Здесь меня всегда любовно принимали, угощали и умудрялись соорудить мне ложе для ночлега.
Разумеется, в тот вечер говорили о войне, о том, что тетя Лена, когда-то работавшая
медсестрой, пойдет на фронт. Я помалкивала, но тоже мечтала о фронте.
Среди ночи меня будят: «Вставай, тревога. И слышится душераздирающий вой сирены. Спросонок, одеваясь, я судорожно вспоминаю, какая же это тревога — воздушная или химическая? В школе мы все это изучали, даже бывали учебные тревоги… Вспоминаю, что преподаватель говорил о каких-то новых отравляющих веществах, способных в короткий срок отравить жителей большого города… Да, сирена — это знак химической тревоги. Кажется… И руки мои начинают подрагивать.
Мы, как и соседи, выносим стулья и садимся в коридоре. Вероятно, для большей безопасности. Лица тревожные, у полной соседки слезы на глазах. Что-то будет?
Меня от волнения начинает подташнивать. Видимо, надо прощаться с жизнью… Чтобы заглушить страх, я тихонько напеваю.
— Тихо, — обрывает меня соседка, — немецкий летчик может услышать. Сосед ей возражает. Но я все же замолкаю. Не слышно никакой стрельбы. Никаких взрывов. Как же распыляются ОВ? — мучительно думаю я. И какие они бывают? Иприт… Еще какие? Как же так, ведь мы все изучали… Забыла. А может быть, это первые признаки действия… Я смотрю на соседей, но ничего подозрительного на их лицах не вижу. Правда, у толстухи дергается нога. Но это от страха.
И тут вдруг по радио раздается бодрый, даже какой-то веселый звук. И голос: «Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!»
Так это была воздушная тревога! — радуюсь я. И тут же вспоминаю, что при химической должен раздаваться удар о рельсу. Перепутала… Какой позор…
И эту первую воздушную тревогу первой военной ночи ни одна бомба не упала на Ленинград. И так продолжалось долго. Москву уже бомбили, а нас нет… До 8 сентября 1941 года. Сколько их было потом, тревог и бомбежек, не счесть. И артобстрелов… Но потом мы к ним привыкли и воспринимали спокойнее.
Первая же — безопасная — тревога оказались для меня самой страшной. И курьезной.
А на следующий день с утра мы помчались к комсомольскому руководству с требованием дать нам работу для помощи фронту. Нас послали рыть траншеи… в Летнем саду. И мы должны были копать, портить те клумбы, которыми еще позавчера любовались. Однако, по всей вероятности, в вырытые нами траншеи потом закапывали статуи, сохранили их от войны.
Июль 1941 года, война все ближе приближается к Ленинграду, и из университетского общежития на Малой Охте слышны громыхания, взрывы. Страшно. Страшно и на окопах под Лугой, куда нас посылали, особенно когда немцы обстреливали нас на бреющем полете. Ленинград готовится к боям — его витрины и памятники (Медный всадник и Ленин у Финляндского) засыпают песком, заделывают деревом… На пустыре у общежития новобранцы обучаются штыковому бою. Тревожно.
И вдруг в моем дневнике странная запись: 28 июля 1941 г.
Я счастлива, счастлива, счастлива…
Поняла, что только одна сила может заставить отступить даже тревоги войны. Эта сила появилась и озарила мой дневник еще до войны, в начале 41 года, когда меня приняли в университетский Театральный коллектив. Им руководил Ефим Захарович Копелян, талантливый, ироничный, умный. Какой прекрасный был наш театр! Мы ставили и драмы, и комедии, которые с удовольствием смотрели в Домах культуры. Самым талантливым был любимец коллектива, игравший главные роли. Я в него влюбилась. Тайно. Сверхплатонически.
Пушкин писал: «Чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я ». Мне хватало увидеть Его раз в неделю, по средам — на занятиях коллектива. И получалось совсем по Пушкину: «Вам слово молвить, и потом все думать, думать об одном и день и ночь до новой встречи».
Из дневника: 25 марта 1941 г.
Хожу и до неприличия улыбаюсь. Даже в трамвае на меня смотрят. Как хорошо… Завтра драм, и я всех увижу. И Его.
А если происходили случайные встречи в Трамвае и интересные разговоры… Мы делились впечатлениями о «Макбете» в Александринке, с Симоновым и Жихаревой. Что еще надо для счастья?
Война, Он на строительстве аэродрома, потом в армии… Я беспокоюсь, грущу… И вдруг встречаю Юлю из нашего театрального, с которой можно говорить о самом интересном, важном и, разумеется, о Нем. И Юля бросает фразу, что Он неравнодушен ко мне.
Я в это время шла по пустырю подле нашего общежития… С тех пор этот пустырь стал для меня любимейшим местом в Ленинграде. И война отступила… Я перестала слышать взрывы и грохот войны. Сгружала песок с платформ и улыбалась. И не уставала, как раньше. Продолжалось так довольно долго… Даже тогда, когда нас вовсю бомбили и обстреливали, я перед сном мечтала, как мы встретимся… И знакомые звуки немецких самолетов не были страшны. И даже разрывы фугасок не очень пугали. Казалось, я неуязвима …
В ноябре, декабре любовь стала отступать. Вероятно, на нее просто не хватало сил. Их становилось все меньше, а они были необходимы для работы — без нее мы не жили.
К концу войны Она снова ожила… А весной 1946 года, особенно когда я узнала, что Он жив, Она будто сошла с ума. Я уже кончила университет, была солидным преподавателем института, читала лекции студентам, но думала только о Нем. Как увидеться? Разумеется, я придумала встречу и… Он меня не узнал.
Я шла домой, а внутри стояло: «Вот и все, так коротко и просто». Нет, было совсем не просто… И Она, несмотря ни на что, не хотела уходить, еще долго не умирала.
Не один раз я задавала себе вопрос: сердиться мне на Юлю за ее обман, вольный или невольный? А может быть, благодарить? Ведь она помогла раздуть мой сердечный огонь такой силы, что он отодвинул даже беды войны. Долгое время я улыбалась под ее грохот.
***
Какой была повестка дня партийно-комсомольского собрания — единственного в моей жизни совместного собрания. Проходило оно, вероятно, 19 сентября 1941 года в Актовом зале университета. Зал полон. Обстановка торжественно-деловая, тревожная. Еще бы, если в газетах мы читаем: «Враг у ворот Ленинграда. Грозная опасность нависла над городом… » И видим, как окна Главного здания университета, выходящие на Неву, заделываются кирпичом, превращаются в огневые точки.
В президиуме люди в военной или полувоенной форме. И только председательствующий в темном профессорском костюме, белоснежной рубашке, галстуке. И сам он — молодой, красивый, но совсем седой — сама подтянутость и спокойное достоинство. Это наш новый ректор Вознесенский, которого я вижу впервые.
Ректор открывает собрание и сообщает, что в случае прорыва немецких войск в город наш университет будет сражаться с врагом на отведенном нам участке обороны. Наш участок обороны проходит по Университетской набережной, 1-й линии Васильевского острова, Малой Неве, Стрелке Васильевского острова.
В голосе и во всем облике ректора чувствуется такая спокойная уверенность, что у меня спадает тревога. Другие выступающие, больше военные, говорят о том, где будут построены баррикады, каким оружием нам предстоит сражаться. Прежде всего — бутылками с горючей жидкостью.
Я огорчена, подавлена — я не доброшу бутылку… Я хорошо стреляю, еще в школе на уроках военного дела я метко стреляла из малокалиберной винтовки, но бросаю я плохо… И почему бутылки? Разве зря мы столько слышали и сами пели что «на вражьей земле мы врага сокрушим малой кровью, могучим ударом… » Почему же все не так?
Худенькая женщина, стараясь выглядеть спокойной, срывая голос, убеждает, что если немцы все же прорвутся в город и будут входить в наши дома, на лестницах, в каждой квартире надо оказать им сопротивление — обливать их кипятком, сыпать в глаза соль. За каждым углом их должна ждать смерть. Я согласна с ней, но как все это получится?
В конце собрания молодой мужчина объявляет, что в наш госпиталь, недавно открывшийся на истфаке, прибыло много раненых с передовой — от Пулковских высот. Мы все сейчас пойдем в госпиталь, где мужчины будут носить раненых, а женщины — их раздевать, перебинтовывать.
Вестибюль нашего истфака, где еще совсем недавно мы спокойно ходили, разговаривали, смеялись, откуда шли в лекторий слушать лекции академиков Струве и Тарле, профессоров Ковалева и Лурье, не узнать. Остро пахнет лекарством. А весь-весь пол уставлен носилками, с лежащими на них людьми в серых шинелях, с бело-коричневыми окровавленными бинтами на руках, ногах, головах.
Никогда в жизни у меня не было более трудного дела, чем снять шинель и рубашку с молодого парня с раненой рукой. Ему было больно, он стонал при каждом движении.
Второй раненый оказался без сознания, и мне приходилось разрезать одежду на его забинтованном теле… У третьего, к которому я подошла, на месте лица были сплошные кровавые бинты… Я остолбенела… не знала, что делать, я готова была убежать…
И когда сестра в белом халате взяла этого раненого на себя, я с чувством вины, беспомощности и облегчения отошла.
Через несколько дней я пришла в нашу комнату с пятью треугольными бутылочками уксусной эссенции — по числу нас, живущих. Внесла предложение: если немцы войдут в Ленинград, мы сражаемся на баррикадах, не удержим их — пытаемся уйти с армией, не удастся — оказываем сопротивление в общежитии. Если не погибнем в боях — выпиваем эссенцию. Прений не было, возражений тоже.
Пять бутылочек стояли до тех пор, пока во время голода мы не нашли им применение в виде приправы к своей еде — хлебу и воде.
Сколько раз я бывала потом в Актовом зале нашего университета… Когда после взятия Берлина мы ринулись туда из общежития на проспекте Добролюбова и ошалелые от радости качали отбивающегося ректора, ставшего за время войны для нас «папой» Вознесенским… Когда слушали интересные лекции кинорежиссера Трауберга… Или концерт хора ЛГУ. Или многое другое…
Но всякий раз передо мной встает тот Актовый зал, суровый и тревожный, когда в нем говорилось об обороне нашего участка.
Источник: Мой блокадный университет. Издательский дом «Измайловский», СПб, 2005 г. с.5-21. (Тираж 1000 экз.)