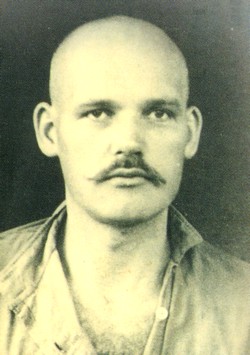Как отныне жить?
Мы спали в амбарах, а днем сидели снаружи на чем попало. Там среди пленных оказался киевский художник по фамилии Лось, его картины есть даже в музеях. Мы с ним о живописи говорили, он восхищался Врубелем, и у него был замечательный тенор. Как-то собралась вокруг него компания, и начали они петь на три голоса любимые украинские песни. Как прекрасно они пели! На дворе спать было прохладно, поэтому мы забирались в амбар, и так получалось, что я попадал на чердак. Ну и не очень-то хочется туда лезть. В конце концов, после полуночи заберешься, а там люди вповалку лежат вплотную друг к другу. Если где и втиснешься, то потом уже пошевелиться нельзя. И наступает через какое-то время такое состояние, что хоть волком вой – встаёшь и уходишь. Лучше мерзнуть на дворе, чем лежать закованным. Немцы тогда еще не сортировали пленных. Только отбирали евреев и устраивали такие игры. Из-под масла для пушек оставались пустые четырехгранные банки с большими отверстиями. Они заставляли евреев надевать эти банки на головы и приказывали им петь, плясать и барабанить себя по банкам. Если человек выбивался из сил, его лупили чем попало, и он опять начинал плясать, пока не упадет. На этой базе мы пробыли около месяца.
Кормили нас один раз в день, варили суп из убитых лошадей, хлеба вообще не давали. Наварят огромные военные кухни. Все где-то понаходили пустые консервные банки. И всё делалось бегом – людей много, и буквально на бегу подставляешь банку повару, и уже второй подбежал. Если кто-то не удержал банку, выронил – остался без обеда. Потом пронеслась весть, что нас куда-то повезут. Там среди нас был чудаковатый человек, который старался говорить по-украински, но очень плохо. Он был без шапки и знаков различия. Этот человек придумал такую вещь. Когда он узнал, что нас собираются куда-то везти, он стал подбивать всех, чтобы говорили, что мы из украинской дивизии. Кинул клич, чтобы нашли пару чистых рубашек и два карандаша – желтый и голубой. Рубашки порезали ножами на маленькие квадратики. Он как-то узнал, что я умею рисовать, и мне поручили нарисовать на этих кусочках ткани огромное количество украинских гербов в виде щита и трезубца, верхняя половина голубая, нижняя желтая. После этого умельцы попришивали нам эти штуки на рукава.
Посадили нас в поезд, и мы поехали. В вагоне давка, сотня людей прижатых вплотную один к одному. Со мной случился обморок, и я сполз на пол. В первое мгновение возникло ощущение что, у меня пропали кости, а вместо них резиновые шланги. Рядом со мной один парень закричал на весь вагон: «У кого есть что-нибудь в зубы, человек сознание потерял». Кто-то передал ломтик сырой тыквы, он сунул мне в рот эту тыкву, зубы автоматически начали жевать, и я ожил. В конце концов, мы приехали в Западную Украину. И когда мы вышли из поезда, то все с украинской нашивкой стали в первых рядах. Половина без шинелей, кто в пилотке, кто без. Я был такой измученный, что готов был опять упасть. Территория ограждена колючей проволокой на несколько километров. И тянутся коробки казарм, строгие четырехэтажные корпуса. По обе стороны железных капитальных ворот стоят два эсэсовца в касках с автоматами, ноги широко расставлены, как изваяния. А в сторонке от них почтеннейший седовласый человек, как мы потом узнали, в прошлом директор школы. Он одет во все военное, но без шапки. Сильный ветер уносит его седые кудри, он серьезно, внимательно и без всякой ненависти провожает нас взглядом. Это был комендант лагеря, он был из местных. Лагерная полиция тоже была из местных ребят, не заморенных, хорошо упитанных добровольцев, в основном это были бандеровцы. Мы распределились по казармам.
Порядок был такой: утром все выстраивались в шеренгу, нас пересчитывали, приезжала кухня, и полицаи начинали раздавать баланду. Баланда была такая – очистки картофеля, немытые, с налипшим черноземом, и кормовые буряки, порезанные на куски, которыми кормят скот. Ну и, конечно, на зубах скрипело страшенно. А что делать, правда, если поболтаешь, часть песка сядет на дно. Но не подохли. Оказывается, наш человек всё вынесет.
Был такой случай. Кухню свернули, хотя на дне ещё что-то оставалось, и нескольким людям баланды не хватило. Я попробовал заступиться и сказал, что это же бессовестно – если нас не пристрелили, то надо ж всё-таки кормить. И тогда один из лагерных полицаев снял ремень и шарахнул меня по голове пряжкой, под которой был напаян свинец. Лицо залила кровь. Я понял, что больше выступать не стану. Давали пайку хлеба из размолотых буряков с добавлением на одну буханку жмени муки. Липкие ломти, как будто из глины слеплены, разрезаны по 400 грамм. Один раз я застал такой случай: какой-то, уже очень ослабевший парень, шел с этой пайкой, а другой более сильный напал сзади, выхватил и убежал. Этот упал и плачет, как ребенок: пайку забрали, отняли пайку, плачет безутешно. Смертность, когда мы прибыли, была 30 человек в день. На мажару, телегу для перевозки снопов, помещалось дневное количество мертвецов. Их грузили без одежды.
Тянула телегу специально подобранная команда, которой давали двойную пайку бурды и хлеба. Через месяц стало две мажары в день. Как-то на поверке мы стоим перед получением баланды, половина нас, славян, а половина восточных людей. Они были в худшем состоянии, без пилоток и шинелей, может, потому что они не привыкли к военной службе и где-то это все растеряли. А мы были кто в шинелях, кто в бушлатах. И вот стоит нас разношерстая шеренга, и один смуглый человек нашел где-то в казарме заброшенный в угол портрет товарища Сталина работы художника Карпова. Сталин там смеётся и аплодирует на каком-то съезде. Этот парень отодрал портрет с подрамника, сделал из него колпак и напялил на себя. И вот стоят сотни скрюченных, голодных пленных, полумёртвых, а Сталин на колпаке смеется и аплодирует.
Потом был день, когда один из полицаев, самый мордатый, который огрел меня пряжкой, получил увольнительную и уходил с большим чемоданом. И все гадали, что у него там, а потом решили, что там деньги. У некоторых пленных были какие-то деньги, люди брали их с собой на войну непонятно зачем. Когда полицаи заканчивали раздавать баланду и всех разгоняли, то тем, у кого были деньги, они ещё продолжали давать сначала по 10 рублей за литр, потом по 15, 20. И очень возможно, что этот полицай набрал полный чемодан денег. Комендант вызвал нашего старшого и приказал составить список украинцев. Я думаю, что это было недоразумение. Немцы не знали, как кого называть. Они, конечно, имели в виду галичан, западников. Их они называли благородной расой украинцев. Потом они сделали из них свою галичанскую дивизию. А мы понимали под украинцами всех, кто живет на Украине. Поэтому мы записали туда и всех себя киевлян, составили список на 500 человек. Отнесли его коменданту. Там заготовили выпускные бумажки, на 10 человек каждую. И нам было сказано, что мы должны держаться по десять человек вместе и добираться до Киева. Объявили день выпуска и выпускали в день по 100 человек. Сначала мы должны были идти пешком километров 30 до железной дороги. Шли мы десятками. В общей сложности выпустили 5 сотен. Я попал в предпоследнюю, а парень, который шел в последней сотне, мы с ним потом случайно встретились, рассказал, что видел, как коменданта увозили из лагеря четыре эсэсовца. Я думаю, что комендант воспользовался тем, что приказ из Берлина насчёт украинцев пришёл неопределенный, и он выпустил всех по списку. А потом кто-то додул, что тут что-то не так. Но нас уже было не вернуть, и нас не искали. А его увезли гестаповцы. О нем говорили, что он был в первую мировую войну в русском плену. Знал русский язык и русский народ. И комендант просто придурился, что не понял, каких украинцев надо выпускать. А галичан среди нас вообще не было. И вот так мы шли пешком, ночевали в деревнях. К нам никто не придирался, и мы уже разбились по три, по четыре человека и дошли до железной дороги. Там оказалось, что раз в день ходили на Киев товарные поезда. Дежурили на вокзале венгры, каждый час менялись. Была декабрьская погода, холод, снег. Когда поезд пришел, мы сели и доехали до Киева. Вышел я на привокзальную площадь, постоял несколько минут, смотрел на город. Полная тишина, нет звуков ни автомобилей, ни трамваев, раньше ж всегда это было, и вообще такое ощущение, что город вымер. На стене вокзала огромный портрет фюрера с надписью: «Гитлер – освободитель». Я направился домой в свой Кудрявский переулок, но когда подошёл к нашему дому, то увидел на нём большое, крупными буквами объявление:
«Внимание! В этом доме живут немцы.
Кто будет нарушать их покой, будет расстрелян»
Где искать Рару, я теперь не знал, решил пойти к своим родителям, но оказалось, что в нашей квартире уже живут чужие люди. Они сказали, что всю труппу Оперного театра, в котором мама работала концертмейстером, эвакуировали в Сибирь. Отец поехал с мамой, он по возрасту и по здоровью в армию не годился. На заборе висел приказ военного комиссара города Киева о том, что все семьи, которые укрывают беглых военнопленных, помогают им едой или одеждой, подлежат расстрелу на месте. Я подумал, что, может, это и хорошо, что я никого не застал, хотя беглым я вроде бы и не был. Со мной на заводе работал мудрый старый мастер Игнат Петрович, и я подумал, что такого старика на войну не возьмут, а я знал его дом и квартиру и решил зайти к нему. Весь Крещатик был в дыму от пожаров. Игнат Петрович рассказывал, что немцы пытались их тушить, но водопровод был разрушен, они вызвали из Германии свою пожарную команду, которая шлангами качала воду из Днепра, но партизаны по ночам рубили эти шланги.
На третий день моего пребывания в Киеве я пошёл пройтись по городу. По Львовской дошел до Сенного базара. На базаре полная тишина. Поворачиваю за угол, вдруг оттуда, как марионетка, выскакивает немец с винтовкой и штыком, с блямбой на груди “Фронтжандармери” и кричит мне: «Цурюк!» (назад!). Я продолжаю идти, тогда он кольнул штыком меня в мягкое место. Был мороз под 30 градусов, очень неприятно этим замороженным штыком меня в мягкое место. Район базара я хорошо знал, подумал, проберусь проходными дворами. Иду в первую подворотню, а там стоит полицай – наш земляк с дубиной, оружие им не доверяли. И он тоже командует мне: «Цурюк!». «Иди, – говорит, – туда, на площадь». Народ потом прозвал полицаев «цурюками». Иду дальше, вторая подворотня, но и там земляк в черной, длинной до пят шинели: «Цурюк!».
Парадные всех домов забиты досками, в дом не войдешь. В очередной подворотне возле бывшей типографии, куда я хотел завернуть, стоит целая шеренга полицаев, у кого дубины, а у большинства просто ветки. Ветки, конечно, гуманнее дубин, они ими не бьют, а направляют людей, как скотину, и загоняют всех во двор школы. Я иду уже не один, нас уже трое, семеро… Ворота открываются со страшенным скрежетом, таким, что аж морозом по коже, видно, их давно не открывали. Заходим мы туда, двор огорожен 4-х метровой стеной. Много людей. Все понимают, что это облава, и что теперь всех ожидает смерть. В глубине этого большого двора стоит маленький домик, в котором когда-то жила сестра поэта Андрея Белого. В детстве я бывал у них дома, дружил с её детьми. Её фамилия была Бугаева. Настоящая фамилия поэта тоже Бугаев, Андрей Белый – это уже псевдоним. А у его деда фамилия была просто Бугай. Отец поэта переделал её на более благозвучную – Бугаев. Однажды Андрей Белый на пару дней приехал с лекциями в Киев. Концерты, лекции, встречи – знаменитый поэт он был, нарасхват, и попросил сестру через адресный стол найти моего отца. Он написал ему письмо на 4-х листах, воспоминания об их юности, о том времени, когда в Москве 30 лет назад они писали стихи и встречались в «Сердарде», кружке московской творческой молодёжи. Отец был очень тронут, написал ответное письмо и попросил меня отнести ему. Так я познакомился с этой семьей, стал ходить к ним в гости. Когда я увидел этот знакомый домик в удалённом углу двора, меня просто потянуло к нему подойти. Дом меня поразил, в нем не было ни одного целого окна или двери, всё было вырвано с мясом и потом забито досками. Я таких уродливых досок никогда не видел, не ошкуренных, напиленных из каких-то кривых деревьев. Задумавшись, я простоял довольно долго. Нахлынувшие воспоминания вдруг оборвал удар хворостины.
Я очнулся, оборачиваюсь: стоит полицай. Оглядываюсь – почти всех людей со двора уже вывели. Я понял, что надо идти. Смотрю, за воротами стоят набитые людьми машины. И я иду и, конечно, понимаю, куда иду, обреченно и покорно. В душе кромешный мрак. На крыльце стоят важные немецкие офицеры. Фуражки у них торчат вверх, как взлетающие самолеты. В пол-оборота к ним, на ступеньку ниже, стоит писарь во всем военном, но не в сапогах, а в высоких ботинках с длинной шнуровкой. Я подумал, сколько времени надо потратить на эту шнуровку, когда утром подъем… Он в очках, слабенький, хлипенький. Но весь кошмар в том, что это лицо я уже раньше где-то видел. И вспомнил: на одной картине в Третьяковке была изображена сцена из жизни помещиков, и на ней среди других персонажей был немец, управляющий поместья, такой же точно, как этот писарь на крыльце. И вот я вижу, этот будто бы управляющий из Третьяковки читает перед немецкими офицерами приказ об отправке нас на тот свет… Такое странное вкрапление в этот ужас войны. Это выглядело до дикости смешно, и я еле удержался от смеха. Но сдержался, потому что подумал: убьют на месте, они сумасшедших не любят.
Ведут меня дальше. Стоят две машины, у каждой по прицепу. И в машинах, и в прицепах уже полно людей. Лет шестнадцати мальчишка-полицай загоняет меня во второй прицеп, и через несколько секунд машины с рёвом рванули. Такие мощные, каких еще и не видел. В прицеп я влазил одним из последних и поэтому оказался в самом углу у заднего борта. А везут нас как раз по улице моего детства, где я знаю каждый камень. Я гляжу и прощаюсь с каждым домом, с каждым забором. Вот дом, там в подвале жил мой товарищ по фамилии Репман – еврей, он тоже любил рисовать, очень симпатичный паренёк. Я думаю: Боже мой, где же теперь их семья, успели ли они эвакуироваться? В другом доме жил пианист с парализованными ногами, приятель отца. Он ходил на костылях, работал бухгалтером. Работать пианистом не пошел, считал неудобным появляться перед публикой на костылях. После разрухи в конце 20-тых, он приносил папе дореволюционные бухгалтерские книги, и тот между строчками записывал по памяти стихи любимых поэтов, таких как Блок, Есенин, Бальмонт – боялся, что их больше никогда не напечатают, хотел, чтобы они хоть как-то сохранились. Следующий дом – там жила женщина, которая помогала маме делать уборку. А вот двор, где был сказочный белый конь. На нём в театре выезжал на сцену князь Игорь. Хозяин держал этого коня, ухаживал за ним, иногда выпускал во двор поразмяться, и мы восхищённо смотрели на этого красавца. Проехали дом, у ворот которого старичок очень культурного вида года два распродавал свою библиотеку. Я всегда останавливался посмотреть. И один раз увидел «Всадника без головы». На обложке так здорово были нарисованы американские прерии, и верхом на коне человек без головы. Он привязан к седлу, чтобы не упал, кровь заливает ему одежду, седло и коня. И вот, стоя в кузове, мне подумалось, что я и сам уже почти что всадник без головы.
И вдруг сверкнула мысль, что хотя скорость немалая, но на крутом повороте всё ж таки можно рискнуть и выскочить, ведь я стою у самого борта, только бы немцев на улице не оказалось. А машины как раз заворачивают на Рейтерскую улицу, где я знаю все ходы и выходы. Как только поравнялись с одной, хорошо знакомой мне подворотней, я мигом выпрыгнул и юркнул в неё. Раздались выстрелы, наверное, кто-то ещё выпрыгнул…
Во дворе, куда я вскочил, оказались сарайчики. Постояв за ними минут 5, пока утих шум мотора, я вышел через переулок на Житомирскую. Хотя и не видно было поблизости немцев, но переходить улицу было страшно. Через какое-то время я услыхал серии пулеметных очередей, а за ними взрывы, и это повторилось четыре раза подряд. После войны я узнал, что это у немцев технология такая была: ставили по сто человек на краю обрыва, расстреливали, люди падали вниз, а они потом подрывали землю, чтобы засыпало убитых, и опять ставили сто человек. Получилось, что письмо моего отца к Андрею Белому спасло меня. Если бы не оно, я бы не познакомился с сестрой поэта, не простоял бы так долго возле её дома в глубине двора, а ведь из-за этого я и оказался в конце прицепа, а если бы попал в середину – оттуда уже не выскочишь.
Немцы развешивали по Киеву множество приказов с предупреждениями типа: «Требуем прекратить диверсии, а в случае продолжения будут расстреляны 100 киевлян». Эти приказы были напечатаны на такой великолепной бумаге, что на ней впору было печатать репродукции картин, а не всякую гадость. Напечатано на двух языках, на немецком и на русском. Кажется, голубой краской на немецком и красной на русском. А партизаны, знай, продолжают делать своё дело, и немцы продолжают уведомлять: «Вчера было расстреляно 100 человек, в следующий раз будет расстреляно 200», потом новое объявление: «Вчера было расстреляно 200 жителей Киева, если не прекратятся диверсии, будет расстреляно 300 человек». Я, видно, попал в четыре сотни. А уже потом, на следующий день прочитал своими глазами объявление о том, что вчера было расстреляно 400 жителей Киева – это тех, которых вместе со мной везли в Бабий яр. Казалось бы, неуместно, но я ухмыльнулся: «Нет, ошибочка вышла, господин комендант – один, а может и больше из этих 400 остались живы!». Но когда я попробовал улыбнуться, мне сделалось нестерпимо больно, потому что на морозе из-за отсутствия жира кожа стала, как пергамент и начала трескаться. Я уже боялся теперь улыбаться. И еще я мысленно проговорил: «Ну, гляди, герр Гитлерюга, мы с тобой посчитаемся, теперь за мной стоят эти четыреста душ человеческих…». И ещё вдруг шибануло в голову: «Я-то живой, потому что они закрыли меня своими телами. Какова же теперь цена моей жизни, и как я отныне должен жить на свете?».
Продолжение следует.
Первая часть воспоминаний: Мой патронташ
Воспоминания переданы для публикации
родственниками автора