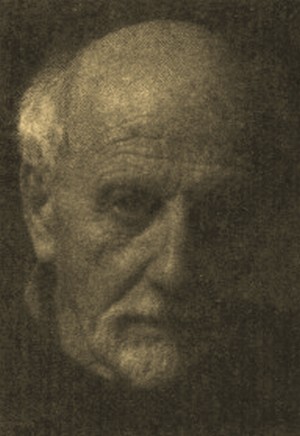Чувство отчужденности от всех
Первая часть:
Манящая свобода и военное время
Неуютным, грязным показался мне и Горький, особенно Канавино — привокзальный район. Город мне был незнаком, предстояло отыскать в нем родных. Из последнего полученного письма я знал, что мой дядя, в военное время назначенный начальником эвакогоспиталя, также оказался в Горьком, куда еще в начале войны была эвакуирована вся наша семья; пока они на автозаводе, но ожидают переезда в квартиру при госпитале. Мне предстояло отыскать их адрес в справочном бюро, это казалось делом несложным. Из-за усвоенного за годы лагерной жизни чувства постоянной неуверенности в завтрашнем дне я не сообщил родным о своем освобождении, решил не искушать судьбу — сам объявлюсь и все.
Сперва я пошел отметиться в спецкомендатуре, она оказалась рядом с вокзалом, затем отыскал киоск справочного бюро и запросил адрес дяди — военного врача. Его не нашли, пришлось запросить адрес второго дяди, постоянного жителя Горького. Он нашелся: Автозавод, Соцгород, Бусыгинский квартал, и я сразу двинулся туда.
В то время пространство между Канавином и Автозаводом оставалось почти незастроенным и, глядя в окно трамвайного вагона, я видел унылую, почти без зелени равнину, лишь кое-где — невзрачные дома.
Добравшись до Соцгорода, я, постоянно спрашивая встречных, оказался наконец в Бусыгинском квартале. Озелененный, застроенный добротными многоэтажными домами, этот район заметно отличался от непритязательной застройки Канавина.
И вот я у дверей квартиры, адрес ее обозначен на полученном в Горсправке листке. Не без робости я нажал кнопку звонка. Дверь открыл мальчуган лет восьми — как я понял, самый младший из моих двоюродных братьев и единственный из них, кто меня не знал. Теперь, чистенький, светловолосый, в аккуратной пижамке, он испуганно глядел на незнакомого дядю в темной, изрядно поношенной одежде и линялых грязно-серых обмотках, небритого и неумытого, с мешком в руках.
Не успел я представиться, как за ним в прихожую выглянула тетя, его мать, и сразу узнала меня: — Витя… ты освободился?
Первый мой вопрос был: — Где мама?
— У себя, они в городе живут, сейчас буду туда звонить, ведь надо ее подготовить… и тебя тоже, ведь не должна она видеть тебя в этой одежде… Сейчас приготовлю тебе пижаму и ванну, пока будешь мыться, позвоню туда.
Через некоторое время, уже после ванны, переодетый в дядину пижаму, несколько короткую и слишком просторную для меня, я блаженно сидел за столом, отвечал на бесчисленные вопросы тети Жени, а рядом, не отрывая от меня глаз, стоял Алик. Пока я был в ванной, вся моя лагерная одежда куда-то исчезла, и больше я ее не видел — недаром тетя с момента моего появления в квартире смотрела на нее с нескрываемым ужасом. Исчез бесследно и короткий овчинный полушубок, каким-то чудом дошедший до меня в одной из посылок. Его я таскал с собой года три с лишним, он служил мне и одеждой и постелью. Как я понял, его постигла участь прочей моей одежды.
Из того, что я привез с собою с Севера, сохранились две присланные мамой книги («Искусство Палеха» Бакушинского и «История фаянса» Габе) и мешочек с открытками и письмами, которые мама посылала мне на Север. И письма и книги я храню и посейчас; «Искусство Палеха» — в обертке из изношенной лагерной гимнастерки, своеобразный лагерный супер — все это я сберег в своих скитаниях.
Зазвонил телефон: маму уже успели подготовить, я услышал ее срывающийся от волнения голос. После нее со мною говорили те из родных, кто в это время оказался дома, они спешили поздравить меня, сказать слова привета. Сейчас, сказали мне, уже известили дядю, и все они выезжают за мной на машине. Как хорошо мне было в эти незабываемые минуты!
Вскоре они приехали — дядя, заменивший мне отца, в непривычной военной форме с погонами, как всегда энергичный, доброжелательный, мои тетки, младший двоюродный брат, которого я помнил добродушным мальчуганом, теперь студент атлетического сложения и мама, от волнения не находящая слов. Она за эти годы заметно постарела, но общее радостное оживление скрыло тогда от всех нас ее неизлечимую болезнь — никто не мог предположить, что ей оставалось всего два года жизни.
Не было с нами в эти счастливые минуты моей бабушки, она умерла уже в Горьком, не перенеся разгрома и разорения, постигших нашу семью с начала войны. Не дождалась ни меня, ни самого любимого из внуков, моего двоюродного брата — он был на фронте, писем не было, его считали погибшим. Позднее, уже зимою, от него пришло письмо, где в иносказательной форме (напрямую запрещалось военной цензурой) он дал понять, что воюет под Сталинградом.
Семья наша была разорена, навсегда лишилась родного очага, «Большого дома», как мы все его называли. Туда при любой возможности съезжались к своей матери, моей бабушке, сыновья, мои дяди из Москвы и Горького; в этом доме мой дядя, врач, второй сын в семье, своей неукротимой энергией и деятельной добротой создал, казалось бы, нерушимую крепость, объединявшую всех нас, — все порушила война.
Но такая это была минута, что не хотелось вспоминать пережитое за годы разлуки — все мы чувствовали себя счастливыми, хотя сознавали, что ненадолго — мне предстояло отметиться в комендатуре и в кратчайший срок отбыть на место назначения в Бондюгу. Меня окружала всеобщая любовь, забота, которой я был лишен все эти годы; так тяжело было отрываться от близких, родных и тащиться неведомо куда.
С тех пор прошло более полувека, мне было суждено пережить всех, кто в те дни радовался моему освобождению: ушло из жизни старшее поколение нашей семьи, чудесные люди, отзывчивые, добрые; я бесконечно благодарен им за то, что они были в моей нелегкой жизни самым светлым и чистым, не стало и двоих моих двоюродных братьев: один был сбит насмерть лихачом-шофером, второй, тот, что восьмилетним изумленно глядел на меня в Соцгороде, умер от болезни сердца сравнительно рано.
Только два дня довелось мне пробыть среди родных. Когда я уезжал, на мне была новая одежда, а в багаж было уложено белье и продукты, какие удалось собрать. Увы, большую часть этого, по военному времени бесценного, груза уже в следующую ночь у меня украли на вокзале в Канаше. Ожидая поезда, утомленный, я не выдержал и задремал, вот и поплатился.
Я ехал в Бондюгу с одним желанием — обосноваться, найти работу, при первой возможности забрать к себе маму, жить вместе, хоть как-нибудь искупить свою невольную вину перед нею. Ничего из этого не сбылось, все получилось совсем по-иному.
В Бондюге меня дружески встретил брат Самуила, но в поселке я не остался. Работать здесь можно было только на химзаводе, но с моими легкими это было невозможно, даже на улицах поселка воздух был отравлен, я сразу начал надрывно кашлять. Выход подсказала случайная встреча в комендатуре, куда пришлось пойти регистрироваться. Там я разговорился с молодым украинцем; после тяжелого ранения он был признан полным инвалидом, родные места были захвачены немцами, поэтому он осел в селе Икское Устье, что на Каме. Жилось ему там неплохо, и он советовал проситься туда. Я так и сделал, в комендатуре не возражали и выписали документ на жительство. На рыночной площади я отыскал подводу из Икского Устья и по проселочной дороге добрался до места.
Икское Устье — старинное село на высоком правом берегу Камы при впадении в нее реки Ик. Население — русское, в Татарии, в сельской местности такое повелось с давних времен: селения чисто русские чередуются с чисто татарскими. Приняли меня хорошо, поселили в семье бригадира рыболовецкой бригады, в ней я сразу почувствовал себя своим. Люди здесь оказались хорошими, колхоз был крепкий, и жил народ по меркам военного времени неплохо. Всем работающим выписывали продукты: пшено, иногда и мясо. Я определился в сеноуборочную бригаду. Труд на чистом воздухе и неплохое питание (в бригаду дважды в день привозили горячий обед и ужин) пошли мне на пользу, давно уже я не чувствовал себя так хорошо. А главное, работа здесь была не подневольная, люди трудились охотно, не жалея сил. В бригаде были женщины, старики, особенно много было молодых ребят допризывного возраста, некоторым вскоре предстояло уходить в армию. Почти все взрослые мужчины были на фронте, уже приходили похоронки, но все же здесь война еще не отразилась на повседневной жизни так разрушительно, как в городах. Не было здесь того озлобления и одичания, которые сразу бросились в глаза, как только я оказался в центре России.
Вскоре по совету моего хозяина я перешел в рыболовецкую бригаду. Рыбачили в ней старики и те немногие мужчины, кого по состоянию здоровья не взяли на фронт. Правда, их часто вызывали в район на очередное переосвидетельствование, где кое-кого признавали годным к строевой службе, как это дважды случалось с моим хозяином: его, тяжелобольного, в районе объявляли годным к строевой, а из воинской части возвращали. Вскоре, устав от этой дерготни, он перешел на работу бакенщиком, на бронь, освобождавшую от армии.
Рыбачили мы на Каме, улов сдавали в счет обязательных поставок государству. Работа эта, хоть и тяжелая, позволяла мне вносить весомую лепту в радушно приютившую меня семью. Целый день, с раннего утра до наступления темноты мы проводили на Каме: заводили огромный невод и затем, надрываясь, всей бригадой тащили на берег, выбирали трепещущую рыбу — лещей, язей, щук, иногда попадались судаки. После первой тони помощник бригадира принимался готовить на всю бригаду уху из отборной рыбы, а мы, разобрав невод, заводили его снова.
Когда поспевала уха, вся бригада собиралась к котлу, доставали собранные дома припасы: соль, хлеб, лук и, расположившись на песке, принимались за трапезу. Вкуснее этой ухи, дымящейся, крепкой, настоящей рыбацкой, без какой-либо приправы, мне ни до ни после едать не приходилось. Отдохнув, заводили невод снова и снова до позднего вечера, последнюю тоню, по обычаю «на счастье» — для себя, этот улов делили поровну. В темноте, измокший донельзя, утомленный, я приходил домой и сдавал хозяйке, тете Паше, улов — мой вклад в семью.
Я был доволен, появилась уверенность, что своим трудом смогу прокормить себя и маму. Еще до наступления холодов я собирался забрать ее к себе — после всего пережитого мы не мыслили жить в разлуке. Как хорошо, что я не успел этого сделать!
Неожиданно пришла повестка: меня вызывали в район на медицинскую комиссию. В лагере в течение четырех лет я неоднократно проходил переосвидетельствование, и неизменно комиссия подтверждала инвалидность. Помимо заработанного в лагере туберкулеза легких у меня с детских лет была деформирована стопа левой ноги. Поэтому на комиссию я ехал, уверенный в том, что пройду очередной осмотр и к вечеру вернусь обратно.
Но в это время из-за огромных потерь на фронтах военкоматы получили указание забирать всех, кто хоть как-нибудь может быть использован в армии. На местах, особенно в сельских районах, задавались плановые цифры мобилизации, за невыполнение военкомам грозило снятие с должности и немедленная отправка на фронт. Немудрено, что они давили на медиков и нередко добивались своего — годными к строевой признавались больные туберкулезом в активной форме, инвалиды с пороком сердца, язвенники, эпилептики. На комиссии, почти не осматривая, меня признали годным, на сборы дали два дня. Все мои планы рушились. Немедленно я отправил телеграмму, сообщил, что уезжаю в армию. Тепло простился с приютившей меня семьей, провожали меня, как родного, в дорогу тетя Паша напекла мне шанег с начинкой из рыбы, целый ворох снеди был заботливо уложен в мой рюкзак. Уезжал я с тяжелым сердцем.
Из Бондюги команду новобранцев пароходом отправили в Казань, вез нас немолодой лейтенант. Ехали мы в качестве палубных пассажиров, народ подобрался хворый, кроме хронических больных были и раненые фронтовики, признанные после госпиталя негодными; в районе их снова замели — выполняли план. Много было немолодых колхозников на пределе призывного возраста, в моих глазах это были старики. Настроение у всех было подавленное, одно чувствовали — везут на убой… и все.
Пароход был забит пассажирами до отказа, особенно тесно было на верхней палубе, где грудились ленинградцы-блокадники. До этой поездки мне не доводилось вплотную сталкиваться с людьми, жизнь которых война поломала столь круто и безжалостно. Моим близким, хотя и потерявшим родной дом и все что в нем было, все же в какой-то степени повезло. Им чудом удалось выбраться из Чернигова чуть ли не с последним железнодорожным составом, избежать обстрела. Живыми и невредимыми они — три немолодые женщины с двумя глубокими старухами и тремя детьми — добрались до Горького, где нашли приют у родных людей.
Ленинградцы — почти все это были женщины с маленькими детьми — вынесли все тяготы блокады, многие потеряли близких, умиравших у них на глазах голодной смертью. Наконец их вывезли, и теперь они следовали в сельские районы Татарии, где предстояло жить в эвакуации. Они были истощены, растеряны; мужчины из этих семей с начала войны ушли на фронт, и об их судьбе ничего не было известно. Немногие захваченные с собою вещи составляли все их достояние.
До встречи с этими людьми мне казалось, что в лагере я прошел все степени голодания, — теперь я понял, что ошибался. Изможденные женщины с неестественно тихими полуживыми детишками, многие из которых лежали на разостланных пальто или одеялах, неспособные даже приподняться, показались мне много страшнее, чем все виденное в лагерном стационаре.
Поразило меня то, что все они беспрерывно что-то готовили или ели. На пароходную кухню их не допускали, там просто невозможно было готовить на такую ораву, однако в кипятке не отказывали. И вот в этом кипятке люди запаривали купленную или выменянную на пристанях картошку, укутывали тряпьем и, обычно недоваренную, тут же съедали. Рядом со мной на палубе расположилась хрупкая молодая женщина с ребенком лет трех или чуть меньше, со сморщенным стариковским личиком. Она не успевала кормить ребенка, тот ел и ел не переставая.
На севере я, прежде не отличавшийся чрезмерным аппетитом, превратился в заправского едока, но этот малыш на моих глазах поглощал столько, что такое мне не под силу было одолеть. И он был не один такой, все, особенно дети, никак не могли остановиться. Я осторожно заметил матери, что так кормить ребенка бесполезно, да и опасно.
— Знаю, — отвечала она, — но теперь уже не так страшно, вначале, когда нас только вывезли, многие сразу с голоду наедались и погибали. Ведь понимаю, что не надо бы ему давать, а отказать не в силах. Он только начинал ходить, когда мы попали в блокаду, а потом от истощения даже на ножки становиться не стал, вот и сейчас не ходит.
Глядя, как на пристанях ленинградцы толпой бросаются менять остатки своего скарба на картошку по кабальному курсу, я стал убеждать эту неглупую интеллигентную женщину повременить, приберечь вещи, без которых, особенно в зимнее время, на новом месте будет очень трудно. Она соглашалась со мной, но не уверен, смогла ли удержаться и хоть что-то сохранить.
Вот так мы плыли по Каме, затем по Волге. Сухого пайка мне хватало, денег для покупок на пристанях просто не было, поэтому на берег я не сходил, предпочитая наблюдать с палубы за обычной суетой — пассажиры при остановках спешили что-нибудь купить на берегу.
Однажды, после того как прозвучал звонок, призывающий пассажиров с пристани на пароход, среди поднимавшихся по трапу мелькнула знакомая голова с залысинами. Сначала я подумал, что ошибся, — в свое время я видел этого человека в лагерной телогрейке, чаще — в белом медицинском халате, теперь он был в военной форме с офицерскими погонами. Человек мелькнул и скрылся среди каютных пассажиров. Я не был твердо уверен, что это именно он, Александр Алексеевич Нейман, главный врач управления лагерей в Усть-Усе, а позднее — главный врач на лагпункте Адак. Если бы не он, давно, еще в тридцать восьмом году, лежать бы мне «на горке». Освободился он еще в сороковом году, и с тех пор я ничего не знал о его дальнейшей судьбе. Не верилось, что человека, отсидевшего по пятьдесят восьмой статье, допустили до офицерского звания.
Однако зрительная память у меня всегда была отличная, ей я доверял, поэтому решил окончательно убедиться. К каютам нас, палубных пассажиров, и близко не подпускали, оставалось караулить на пристанях. Уже на подходе к следующей пристани я выбрал удобное место на палубе, откуда был хороший обзор, и стал вглядываться. Да, я и впрямь не ошибся, это был Александр Алексеевич, он спускался по трапу на берег. Тотчас я сбежал по трапу и встретил доктора, возвращавшегося на пароход с какой-то покупкой.
Радостной была наша встреча. Александр Алексеевич всегда относился ко мне с исключительным вниманием и заботой, мне же в свое время посчастливилось хоть немного отблагодарить доктора, доставив близкому ему человеку, медсестре Татьяне Николаевне Ерофеевой, передачу из Усть-Усы — деньги и кое-какие продукты.
От Александра Алексеевича я узнал, что после освобождения они с Татьяной Николаевной обосновались в Овинищах, районном центре Калининской области, не так давно родился ребенок. С начала войны его мобилизовали, теперь он военврач третьего ранга, возвращается из командировки. Доктор увел меня к себе в каюту, и до Казани мы все время провели вместе. С ним я поделился своими тревогами: я беспокоился за маму, как она перенесет эту новую беду. Александр Алексеевич посоветовал написать родным письмо, и хотя ему было не совсем по пути, решил заехать с моим посланием в Горький, предупредить и возможно успокоить мою мать. Я опасался, что письмо, отправленное из Икского Устья, пропадет и мама, не дожидаясь, может туда отправиться.
Впоследствии я узнал, что доктор побывал в моей семье и передал письмо родным. Там еще по моим рассказам знали, что значил этот человек в моей лагерной жизни, и приняли радушно, всем он очень понравился. С моим дядей, теперь тоже военным врачом, у них нашлось много общего, его уговорили чуть задержаться в Горьком. Александр Алексеевич много чего рассказал обо мне и о нашей последней встрече на пароходе, третьей по счету. Первая была в Усть-Усе, вторая — на Адаке.
Нашу команду лейтенант довез до Казани. Город показался мне еще более запущенным и грязным, чем Горький. Поразили меня здесь мальчишки, продающие на улицах питьевую воду, такого я нигде не встречал. Впрочем, в городе мне быть почти не довелось, нас сразу же загнали на сборный пункт, где поначалу держали всех мобилизованных. Это заведение ничем не отличалось от лагеря: так же спали на дощатых нарах, такая же проходная с дежурным вахтером, выход в город — только на работы.
Здесь снова была медкомиссия, врачи были много более объективными, чем в Бондюге, осматривали внимательно. Меня признали нестроевым, но от армии не освободили — не то было время.
Сначала невозможно было выбраться в город, но затем, оглядевшись, я все же ухитрился выпросить увольнительную; она понадобилась, чтобы отыскать семью Евгения Ивановича Короткого, высланную в Казань из Москвы. Евгений Иванович — черниговец, мой земляк, в молодости — друг одного из моих дядей, до ареста был заместителем директора Института Маркса-Энгельса-Ленина. Тихий, совершенно седой, инвалид по болезни сердца, он работал на Адаке экономистом. Среди адресов, которые я взял с собой при освобождении, был и адрес этой семьи; я не мог не использовать случай передать привет его жене и сыну.
Не без труда я отыскал их в убогой комнатушке, почти без мебели. Жили они трудно; и мать, и сын работали на военном заводе, оба, особенно шестнадцатилетний парнишка, выглядели крайне истощенными. Я передал им привет от мужа и отца. Евгений Иванович, во всяком случае, в бытность мою на Адаке, жил много лучше, чем они «на воле». Работа в конторе для него была вполне посильная, жил он не в общем бараке, а в домике для конторских, и я, не кривя душою, мог своими вестями принести хоть какое-то успокоение в эту разоренную семью. Не знаю, что стало с ними, уберегла ли судьба сына Евгения Ивановича от фронта.
Из Казани меня направили в воинскую часть, стоявшую в глубинке Марийской АССР, оттуда позднее перевели в Йошкар-Олу на обслуживание гаража. Осенью сорок второго года по счастливой случайности я в составе воинской команды попал в Горький. Как негодный к строевой службе, но годный к физическому труду (такова была формулировка моей статьи в перечне болезней), я подлежал отправке на одно из горьковских предприятий, но по ходатайству дяди меня направили на работу в эвакогоспиталь в качестве санитара. Жить пришлось при госпитале на казарменном положении, но в свободные часы по увольнительной я имел возможность отлучаться и проводил это время в семье, с мамой.
Работа в госпитале, особенно в те дни и ночи, когда прибывали эшелоны с ранеными, была нелегкой. Тяжело было видеть этих искалеченных ребят, было не по себе от сознания, что я не на фронте, а в тылу, в относительной безопасности — летом сорок второго года в течение нескольких недель Горький по ночам регулярно бомбили немецкие самолеты. Эти ночи я проводил на крыше госпитального здания, там был наш пост на случай попадания зажигательной бомбы. От сброшенных немцами осветительных ракет становилось светло почти как днем. То и дело на нашу крышу падали осколки зенитных снарядов — ими обстреливали вражеские самолеты батареи ПВО. Иногда в скрещение лучей света, направленный с земли, попадал немецкий самолет, эдакая метавшаяся в небе мошка, но тут же ускользал.
Сидя на крыше, мы ждали, не появятся ли наши самолеты, но напрасно, они обычно встречали немцев на подлете к городу. Мой напарник, веселый и бесстрашный сержант Васька Минин, парень лет двадцати из Архангельской области, во время налетов лежал у конька крыши, не обращая внимания на падавшие рядом осколки: проверял, по его выражению, теорию вероятности. Я же хотел испытать самого себя и, лежа рядом, радовался, что не испытываю страха. В двадцать с небольшим это еще могло успокаивать.
Ближе к рассвету бомбежка заканчивалась. Сирены, в двенадцать ночи призвавшие нас на пост, теперь звучали на отбой. Мы спускались с крыши и расходились — хоть пару часов поспать.
В армии, а потом в госпитале, я постоянно чувствовал себя отчужденным от всех, с кем приходилось сталкиваться, и не переставал чуть ли не с ностальгией вспоминать наше небольшое, но крепкое духом сообщество на Адаке. Здесь, «на воле», меня, пожалуй, сильнее, чем в свое время в лагере, угнетало чувство страха, постоянное недоверие к людям. Больно вспоминать — север, лагерь настолько изменили меня, так отдалили от всеобщего натужно-оптимистического восприятия жизни, вдолбленного официальной пропагандой, что мне с родными, да и им со мною, было нелегко. Когда отошла первая, чистая радость после избавления от лагерей, от встречи с близкими, тяжким грузом на мои отношения с мамой легло совершенно разное восприятие действительности, сложившейся обстановки.
Из лагеря я вышел с ясным пониманием того, что Сталин и весь его режим преступны, бесчеловечны и, по сути, ничем от фашизма не отличаются. Ничего, кроме ненависти, к этому строю я не испытывал. В лагере слово «патриот» с добавлением «лагерный» было самым что ни на есть унизительным, а наименование СССР расшифровывалось (разумеется с величайшей конспирацией) как Смерть Сталина Спасет Россию. В глазах моих родных Сталин прежде всего был человеком, возглавившим борьбу с фашизмом, чуть ли не гением — так тогда думали очень многие. Мои двоюродные брат и сестра были на фронте. Мама, испуганная моей мрачной ненавистью, очевидно, страшась за меня, робко пыталась меня переубедить; думаю, прежде всего, она по-своему хотела меня охранить.
Сейчас мне больно вспоминать, как я в ответ взрывался, не щадя ее: «Неужели я там, в лагере, для того мучился, чтобы после всего пережитого, здесь, в своей семье, такое слышать!» Еще ее огорчало мое нежелание продолжить, более того, даже помыслить о продолжении образования, о личной жизни. Но здесь она, обычно тихая, не умевшая и не желавшая навязывать кому бы то ни было свою волю, была непреклонна, настойчиво уговаривала, убеждала добиваться восстановления в институте. Только благодаря ей я позднее решился продолжить образование.
В сорок третьем году вышло постановление вернуть из армии бывших студентов на третий курс и старше. Мой московский дядя обратился с ходатайством о моем возвращении в институт. Вопреки моей уверенности, что это дело несбыточное, я получил вызов и не без колебаний поехал в Москву.
Начиналась новая полоса в моей жизни, но я сознавал, что та, прежняя, лагерная, из памяти не уйдет, и не все в ней я буду вспоминать с ужасом, иное и с благодарностью. Возможно, без этого поворота в моей жизни я превратился бы в одного из миллионов людей с «вывернутыми наизнанку мозгами» по определению моего лагерного друга Ивана Ивановича Лебедева — людей искренне чтивших «отца, учителя и друга», «светлого гения человечества». За все в этой жизни приходится платить, заплатил и я — и не самую большую цену, впрочем, и не малую…
P.S. Эта повесть была бы неполной, если не упомянуть о тех, кто после моего возвращения в институт своей дружбой и вниманием помог мне залечить душевные травмы, нанесенные лагерем, прежде всего, неуверенность в себе и чувство глубокого одиночества. Это мои новые товарищи по институту и многие из преподавателей. Мне посчастливилось попасть в группу, которая первые годы войны провела в эвакуации в Ташкенте. Почти все они были младше меня лет на пять-шесть, в эвакуации жили тяжело, часто впроголодь. Каждый пятый был из семьи репрессированных. Среди них я постепенно оттаял, почувствовал себя своим и обрел друзей на всю оставшуюся жизнь. Им, как и друзьям по лагерю, я обязан многим чем живу.
Источник: Рубанович Виктор. Адрес – лагпункт Адак: автобиографическая проза. М.: Возвращение, 2011. с. 179-192. (Тираж 2000 экз.)