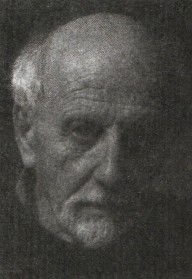Болотные солдаты
Среди многих афоризмов, сложившихся в лагерях, был такой: «Если у тебя есть рога, сдай их в каптерку, пока не сшибли». В первые месяцы лагерной жизни, осенью 37-го, я эту истину еще не успел усвоить, и это мне дорого обошлось. Поначалу мне с работой повезло, хотя я этого не уразумел. Я попал в бригаду, которая устанавливала телеграфные столбы на трассе строившейся дороги Усть-Вым — Чибью, в дальнейшем продленной до Воркуты. Работа была в общем несложная, хотя не из легких. Через каждые 50 метров мы должны были вырыть ямы и в них установить заранее подвезенные столбы. Трасса проходила по торфяникам, ямы приходилось рыть глубокие, работу усложняли плывуны и грунтовые воды. Многим из нас, непривычным к физическому труду, приходилось нелегко. На первых порах, несмотря на то, что работали в брезентовых рукавицах, мои руки были стерты до кровавых мозолей.
Однако этот труд был много легче, чем земляные работы по отсыпке полотна дороги, а главное, жили мы более свободно, вне лагпункта, на сухом пайке, свой кашевар готовил на всю бригаду. По лагерным меркам это считалось благодатным житьем. Народ в бригаде подобрался из осужденных по 58-й статье, в большинстве своем — рабочие и колхозники, люди привычные к тяжелой работе, за ними тянулись и такие, как я. Бригадир Смирнов, немолодой уже человек и бывалый лагерник, был по-своему справедлив. Он, конечно, видел, что многие, и я в том числе, работать наравне с настоящими работниками не могут, но норму выводил всем без исключения.
Но надвигалась осень, копать ямы, стоя в ледяной воде, становилось все тяжелее. Необходимы были сапоги взамен износившихся ботинок, но их долгое время не давали, а когда, наконец, выдали, на всех не хватило. В первую очередь их выдали лучшим работникам. Начались обиды, дошли до прямой ссоры с бригадиром. Особенно негодовал Кирюшкин, бывший парикмахер из Москвы, хилый и довольно вздорный человек лет тридцати пяти. Я, как и все в бригаде, его недолюбливал, но тут, разобиженный, стал горячо поддерживать. Смирнов попытался нас урезонить, но мы, как говорится, завелись и отказались копать ямы без обуви. Тогда он пригрозил списать нас из бригады на трассу, на это мы сгоряча отвечали:
— Ну и списывай!
— Если так, ступайте, только увидите, там вам, дуракам, хуже будет, еще не раз пожалеете, — беззлобно ответил Смирнов, выписывая направление на лагпункт.
Мы получили сухой паек на сутки и не спеша пошли, ничуть не расстраиваясь. По дороге рассудили, что раз уж выдался такой случай, надо явиться на лагпункт к вечеру и никак не раньше. Уже больше месяца мы не знали выходных дней, а тут сам собой получался выходной, ему мы обрадовались, словно малые дети.
День выдался не по-осеннему теплый и солнечный. До этого нам не удавалось вволю поесть ягод, вблизи трассы они были уже обобраны, когда прорубали просеку и насыпали полотно дороги, а в глубь леса никто из бригады не заходил, там то и дело рыскали оперативники с собаками. Теперь, имея на руках направление и аттестат, мы решили полакомиться и понемногу отошли от трассы, не заботясь об ориентации.
Только теперь мы увидели и оценили богатства северного леса, попали на необъятные ягодники, которые как бы чередовались: то сплошь брусника — красным-красно, то черничники с черно-сизой ягодой, сочной, вкусной. Мы с удовольствием срывали ее пригоршнями, отправляли в рот. Пройдя пару километров, устроили привал, закусили хлебом и треской из сухого пайка. Впервые за долгое время мы хоть ненадолго оказались на природе не подневольными людьми, это нас одурманило. Солнце еще стояло высоко, мы брели не спеша, ягоды уже не привлекали. До вечера было еще далеко, и поначалу мы попросту тянули время, ведь до лагпункта было всего 10—12 километров ходу, не более.
Первым опомнился Кирюшкин. «А где трасса?» — спохватился он. Толкнулись туда-сюда — ничего похожего, мы явно сбились с пути. С детства я ходил по лесам в украинском Полесье, но там это были небольшие массивы, окруженные полями, кругом были селения, и на дорогах то и дело — люди. Здесь же была глухая тайга, которая теперь казалась зловещей, хотя ее по-прежнему освещало не по-осеннему яркое солнце.
Мы растерялись, занервничали, особенно Кирюшкин, он был постарше, больше моего пробыл в лагере и яснее осознавал опасность нашего положения — в случае неявки на лагпункт нас неминуемо объявили бы в побеге, могли судить и дать новый срок — такое уже не раз случалось. Во всем он винил меня, мы и ругались и мирились, спорили, правильно ли идем, немало времени потратили, стараясь выбраться. Все-таки нам повезло — к вечеру, когда уже начинало темнеть, мы почуяли запах дыма и, ускорив шаг, с облегчением увидели просвет — это открылась просека, впереди виднелись палатки, люди брели от кухни с котелками. От первых встречных мы узнали, где найти начальство, сдали аттестаты и получили направление в бригаду. Усталые и голодные, мы улеглись на отведенные нам места и сразу же уснули как убитые на жестких нарах.
Наутро нас подняли и после скудного завтрака — половника жидкой кашицы — погнали на построение. Было еще совсем темно, но даже в темноте заметно было, что люди в бригадах выглядят изнуренными, обмундирование на всех изношено до предела. Всех нас построили побригадно, и начался ритуал, который я, до сей поры работавший на отшибе, лишь иногда наблюдал со стороны. Из группы начальства вышел одетый в «вольное» воспитатель и с отработанной ораторской интонацией начал вещать о воспитании трудом, искуплении вины честной работой, о лагерной дисциплине. Слушали всю эту галиматью в угрюмом молчании. Когда он, наконец, кончил, заиграл хилый духовой оркестр — несколько музыкантов в таких же видавших виды телогрейках, какие были на нас.
После переклички, разобрав заранее сложенные в кучу лопаты, все по команде двинулись строем к месту работы. Было еще темно, мы брели, то и дело, спотыкаясь о затвердевшие комья земли, замыкали колонну музыканты, сменившие инструменты на лопаты.
Добравшись до места, приступили к работе: копали землю, грузили ее на тачки и по трапам вывозили на трассу, там уже другие люди выравнивали ее, укладывая полотно дороги. Нас с Кирюхиным определили в тачечники, работа была лошадиная, мы с трудом втаскивали тяжело нагруженные тачки по скользким трапам. Бригада Подкопаева, куда мы попали, считалась одной из самых захудалых, и нравы в ней царили жесткие. Бригадир из проворовавшихся осоавиахимовских начальников, сухощавый, с командными интонациями в голосе, был в бригаде царем и богом. Он окружил себя компанией подручных, из которых самым приближенным был коренастый красномордый татарин Хайрулин, осужденный за хищения торговый работник.
Подкопаев и Хайрулин сами не работали, беспрерывно понукая остальных. Наряды за работу Подкопаев закрывал произвольно, отписывая выработку на тех, кто перед ним лебезил. Бригада заданий не выполняла, более половины оставалось на 600 граммах хлеба без дополнительной порции каши, которую днем вместе с хлебом привозили на трассу. Избранные из окружения бригадира эту кашу получали, голодные смотрели им в рот — это входило в воспитательную систему. Работали по 12 часов ежедневно, без выходных. Не раз и не два пришлось пожалеть о бригаде Смирнова, вспомнить разумные слова, сказанные перед уходом. Здесь и старание было бесполезно, как ни рвись, больше шестисот грамм не получишь, только страх быть обвиненным в саботаже да свирепый рев бригадира заставляли кое-как ковыряться. С работы возвращались уже в темноте, колонну сопровождал конвой. Добравшись до лагпункта, получали половник каши на ужин (обед привозили на трассу). Проглотив свою порцию, сразу как были в одежде и обуви заваливались спать на жесткие нары — постелей нам не полагалось.
Истинным наказанием были вши. В баню не водили, ее в лагпункте не было, и паразиты буквально загрызали. Иногда по вечерам кое-кто пытался их истреблять, прожаривая нижнее белье над печью — огромной раскаленной докрасна бочкой, уложенной на песчаную подушку. Занятие это требовало известной сноровки, чтобы не спалить белье. Впрочем, толку от него было мало — паразиты тут же переползали от соседей.
С первого же дня мы с Кирюшкиным попали в разряд не выполняющих нормы. Такие в бригаде составляли большинство, почти все с этим смирились. Среди забитых и бессловесных бригадников заметно выделялся высокий худой зек с копной кудрявых каштанового цвета волос и небольшими усиками. Немногословный, он на постоянные придирки Подкопаева отвечал короткими репликами, полными ненависти. Слегка вздернутый нос придавал его физиономии, заросшей короткой щетиной почти до глаз, задорное выражение. Рядом с ним постоянно держался бледный паренек; невысокий, длиннолицый, он с трудом управлялся с тяжелой тачкой. Я заметил, что эти двое всегда стараются подгадать к трапу в одно время, чтобы с помощью деревянного крюка, которым подцепляют тачку за передок, помочь друг другу при подъеме.
В лагере среди множества людей почти каждый стремится выискать близких себе по характеру, наклонностям, часто такое притяжение бывает взаимным. Так получилось и у меня с этими двоими — в обед, когда нам раздали еду и пайки хлеба, мы устроились рядом и разговорились. Темноволосый Костя Григорашвили оказался бывшим моряком торгового флота, осужденным по 58-й статье, его друг Володя Земницкий до ареста тоже работал в торговом флоте, только не моряком, а экспедитором. В лагерь Володя попал за провоз из-за границы какой-то мелочи, признанной контрабандой. Коренной ленинградец из интеллигентной семьи, он был тихим, немногословным. С ним я сразу сошелся, и мы стали держаться вместе.
Самым энергичным и опытным из нас был Костя, старший по возрасту, он и стал вожаком нашей тройки. Это был человек прямой и резкий, совершенно неспособный мириться с несправедливостью, хитрить и приспосабливаться. Именно за это возненавидел его Подкопаев, свою ненависть он перенес и на нас с Володей — всех троих он неизменно держал на 600 граммах. Костя вырос на Сахалине, куда еще до революции был сослан его отец, поэтому говорил без малейшего акцента. Хотя он никогда не бывал в Грузии, гордое сознание своей принадлежности к грузинскому народу было воспитано в нем с детских лет.
Работа на тачках при постоянном недоедании постепенно изматывала, с каждым днем становилось все холоднее, все тяжелее было в кромешной тьме тащиться на работу и с работы по заболоченной местности, то проваливаясь в чуть затянутые ледком ямы с водой, то запинаясь о смерзшиеся комья земли. Даже крепкий жилистый Костя заметно сдал, лицо его, неумытое, как и у всех нас, казалось, обтянуло кожей, глаза, хоть и по-прежнему яркие, глубоко запали. У Володи лицо было мертвенно-серым; каким уж был я сам, не знаю, в зеркала мы не смотрелись, — наверное, не лучше их.
Самое страшное — у меня начали опухать ноги, они с трудом влезали в тяжелые, сваренные из обрезков автомобильных покрышек «комбинированные» ботинки, негласно именуемые здесь «сталинскими кандалами». Постепенно на ногах образовались незаживающие язвы, каждый шаг, особенно на трапе с тачкой, отдавался мучительной острой болью…
Часто, с трудом передвигаясь по заболоченной низине, где пролегала трасса, я вспоминал песню гитлеровских концлагерей «Болотные солдаты». Ее в пересыльной камере Бутырской тюрьмы пели трое молодых немецких коммунистов: «Wir sind die Moorsoldaten und gehen mit den Spaten ins Moor, ins Moor, ins Moor…» (Мы болотные солдаты, идем, несем лопаты, в болота, в болота). Пели они очень слаженно, последние слова «ins Moor, ins Moor» — с постепенным затуханием звука, точно болото их засасывало.
Вот так и мы шагали на работу в предутренней тьме, терзаемые голодом, ко всему безразличные — истинные болотные солдаты…
Однажды по лагпункту разнеслась весть, что на участок к нам для ускорения работ прибывает отряд рекордистов. Об этом отряде мы были наслышаны давно, слава о нем гремела по всей трассе. Отряд был любимым детищем лагерной администрации, и льготы ему давались немалые. Состоял он сплошь из уголовников, ни один политический туда не допускался. В отличие от нас, спавших на голых нарах из жердей, не помышлявших ни о постельном белье, ни о бане, рекордисты жили в отдельной утепленной палатке, получали усиленное питание. За перевыполнение задания им шли зачеты, существенно сокращавшие сроки, — нам это не полагалось: раз 58-я — сиди «от звонка до звонка».
Вскоре рекордисты прибыли, их поставили на участок трассы рядом с нашей бригадой. Это были крепкие молодые парни, одетые не в пример нам в обмундирование первого срока, обутые в добротную обувь. Они не были отпетыми рецидивистами, те в лагере вообще не работали. Рекордисты работали тяжело из-за льгот и прежде всего из-за зачетов, работали на износ, такое могли выдержать лишь люди исключительно крепкие и выносливые. Начальство всячески поддерживало отряд, бросая на помощь подсобников из других бригад — вся выработка при этом приписывалась рекордистам. Это была постоянная практика.
В первый же день нарядчик приказал Подкопаеву передать в распоряжение отряда плотников для устройства трапов, да еще отдать туда троих на работу крючниками. Бригадиру это было не выгодно, но спорить не приходилось. Подкопаев послал Костю, Володю и меня с расчетом подставить нас на убой — по всей трассе ходили слухи о непосильной работе у рекордистов, а еще больше — о расправах с не угодившими им подсобниками.
Работа и впрямь оказалась тяжелой. В отличие от обычных бригад, где истощенные люди не нагружали тачки дополна, рекордисты в погоне за выработкой загружали их до краев, а у некоторых, наиболее рьяных, тачки были сделаны увеличенного объема на заказ. Поднять такую махину по наклонному трапу было не под силу даже самому сильному человеку, вот и ставили у трапов подсобников — крючочников. Их дело было подцеплять груженую тачку за передок и совместно с тачечником втаскивать по трапу на насыпь. Трапы были покрыты землей, просыпанной с тачек, ноги по этой земле то и дело скользили, напрягаться приходилось изо всех сил. Тачки шли одна за другой, это был какой-то кошмар — едва отдышавшись после подъема, приходилось сбегать вниз по трапу, чтобы подхватить следующую тачку, и так весь день.
Но даже не постоянное напряжение было самым страшным на этой нечеловеческой, прямо лошадиной работе. Среди тачечников были и такие, кто всю тяжесть норовил переложить на крючочника, лишь удерживая тачку в равновесии. Если крючочник, по мнению такого «партнера», тащил тачку вполсилы, следовала расправа — добравшись до конца подъема, тачечник ударом сбивал его с трапа в траншею, зачастую наполненную ледяной водой.
Чаще других такое проделывал самый прославленный из рекордистов, невысокий коренастый эстонец Уйба. Медлительный, белобрысый, с длинным лошадиным лицом, он работал с огромной заказной тачкой, самой большой в отряде; не спеша шагая по трапу на коротких, слегка кривоватых ногах, Уйба, ступив на трап, с первых же шагов как бы повисал, перелагая весь груз на крючочника. Если он решал, что тот плохо помогал, то молча одним ударом сбивал с трапа. Этот удар обычно наносился по голове неожиданно и коварно. Мне такое довелось испытать только один раз, я слетел с трапа настолько оглушенным, что не сразу пришел в себя.
Уйбу в отряде не любили, расправ не одобряли, подчас одергивали, но привычек своих он не менял, был всегда невозмутим до бесчувствия. На наше счастье, таких в отряде было немного, Уйба, пожалуй, был в своем роде единственным. Еще двое-трое, вспылив, могли иногда дать волю рукам, но эти действовали сгоряча, без холодной, обдуманной злобы, которая отличала Уйбу — рекордиста номер один.
В первый день работы с рекордистами нам пришлось нелегко, но постепенно мы приспособились и дело пошло на лад. Днем, когда на трассу привезли обед и хлеб, они позвали нас и накормили досыта. А в конце дня несколько человек подошли к своему бригадиру и сказали, чтобы на следующие дни он забирал в отряд именно нас.
Дальше так и повелось — ежедневно, с развода мы втроем уходили к рекордистам и с ними работали. Труд был нелегким, но зато хлеб и приварок мы получали по полной норме, да и в отряде нас старались поддержать, подкармливали из своего котла — в питании их не ограничивали. Постепенно среди отрядников мы стали замечать людей, которые нам сочувствовали, иногда бросали краткие слова одобрения или принимали на себя тяжесть тачки на подъеме, когда это было нам не под силу.
Постоянно работая с этими людьми, мы невольно вглядывались в их взаимоотношения. Многое здесь было иным, чем в нашей бригаде. Бригадир отряда, черноволосый великан по прозвищу Большой Иван, особой властью не пользовался, ни на кого не давил, хотя его явно уважали. Его дело было организовать работу, обеспечить отряд удобным жильем, питанием, одеждой, отстоять интересы работников перед начальством — с этим он справлялся как нельзя лучше. Но ему и в голову не приходило кого-либо из отряда муштровать или мытарить — такое здесь просто не прошло бы. Присмотревшись к нравам, царившим в бригаде Подкопаева, рекордисты в разговорах с нами не раз удивлялись, как мы такое терпим. Между собою они не дружили, но и не ссорились, каждый жил и работал в одиночку, рвались, не щадя себя, с единственной целью — заработать зачеты.
Наше относительное процветание на работе у рекордистов злило Подкопаева — мы, отщепенцы, парии бригады, на виду у всех получали полный паек, а выработка в его бригаде снижалась. Мы знали, что Хайрулин подстрекает бригадира не отпускать нас к рекордистам. Однажды Подкопаев попробовал это сделать, но в то же утро по жалобе Большого Ивана получил нагоняй от начальства и вынужден был отступить.
Мы не сомневались, что при удобном случае он на нас отыграется. Вскоре такая возможность ему представилась: рекордистов перебросили на следующий участок трассы, а нас вернули в бригаду.
Снова Подкопаев прочно определил нас в разряд не выполняющих норму на те же 600 граммов. Подходил к концу октябрь, становилось все холоднее, силы наши были на исходе. Костя, хотя и сильно исхудал, но все еще держался, более слабые, такие как я и Володя, бродили подобно теням. Особенно сдал Кирюшкин, иногда мы замечали его у помойки, где он пытался отыскать хоть что-нибудь съедобное. Костя фыркал, ругал его, называл шакалом, но таких становилось все больше.
По утрам до развода заболевшие обращались в медпункт, надеясь получить освобождение от работы. Большинство жаловались на понос. Таких лекпом уводил за палатки и, не веря на слово, предлагал доказать делом, рассадив их по кругу. Люди старались, тужились, но, как правило, попусту, лекпом, осмотрев результаты этих трудов, неизменно изрекал:
— Ерунда! Не кровавый! На работу, вот будет кровавый — освобожу!
Несмотря на строгие запреты и угрозы начальства, истощенные люди разжигали костры и грудились у огня, пытаясь отогреться. Костры эти начальники затаптывали, но их тут же разжигали вновь — это была форма сопротивления, порожденная отчаянием.
Между тем стройка все же продвигалась и в начале ноября насыпь достигла места стыка с соседним участком. По окончании рабочего дня нас погрузили на открытые машины и перебросили на другой участок. Кое-как разместившись на ночлег в палатке, мы на следующее утро вышли на новое место работы. Пока плотники устраивали трапы, остальные развели костер и сгрудились вокруг него.
На соседнем участке уже полным ходом шла работа, мы увидели знакомые фигуры, здесь расположился отряд рекордистов. Костя, заядлый курильщик, долгие дни терзавшийся без курева, решил разжиться у них махорочкой. Вскоре он возвратился с двумя парнями из отряда.
— Здорово, крючочники! Аида к нам! Мы заколебались:
— Нельзя, бригадир не пустит!
— А ну его на… Чего боитесь! Иван вот-вот подойдет и все у начальства устроит!
Так надоело нам голодать и терпеть произвол Подкопаева, что опасения отступили на задний план. Первым, как всегда, решился Костя, и не только за себя, а за всех троих:
— А правда, что терять! Пошли! — И он решительно двинулся к соседям. Мы — за ним.
У трапа нас встретили старые знакомые:
— А, большой крючочник! — Это Косте. — Давайте к нам! Что это вы так дошли! Совсем еле ползете… Ничего, днем обед подвезут, накормим. Становитесь, работайте. Здесь с нами не пропадете!
Чувствовалось, что нам рады, кто-то похлопывал по плечу, спрашивали, как жилось, узнав, что все это время сидели на штрафном пайке, материли Подкопаева.
Впрочем, разговоры длились недолго, они взялись за работу и мы с ними — здесь все получалось само собой без понуканий. Нелегко нам было втаскивать тяжеленные тачки, за эти недели мы ослабели от бескормицы, но рекордисты неожиданно для нас оберегали, страховали, даже у обычно необщительного Уйбы на лице проступило подобие ухмылки, и он никого не пытался обидеть.
В разгар работы с насыпи послышался раздраженный окрик: это Подкопаев, узнав, что мы ушли, явился, чтобы вернуть нас в бригаду. Он матерился, угрожал всяческими карами. И тут на него набросились рекордисты:
— Ты, гад, людей совсем заморил. Мотай отсюда, сука, пока цел, иначе с трапа слетишь!
Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не Большой Иван, прибежавший на крик. Он унял своих, отвел Подкопаева в сторону и после краткого разговора с ним бросил:
— Оставайтесь, работайте!
Так мы снова на время освободились от Подкопаева и остались у рекордистов. Но я был уже настолько истощен, что выдерживать их темп работы с каждым днем становилось все труднее. И таких как я было много; по сути, работать эти люди, «доходяги», или как их еще именовали «огоньки», уже не могли. Но по-прежнему никого от работы не освобождали, всех выгоняли на трассу и держали там дотемна. Совсем уже ослабевших куда-то увозили малыми группами.
По трассе ходили слухи о том, что создаются специальные инвалидные лагпункты — многие мечтали туда попасть. Под конец я так сдал, что даже до карьера не мог добрести. Вместе с Володей и другими такими же доходягами меня определили на подсобные работы — заготовлять сушняк для отопления палаток. Костя еще кое-как держался на трассе.
Наконец меня и еще пятерых таких же вечером после работы под конвоем на открытой дрезине повезли по трассе. По дороге на каком-то лагпункте к нам присоединили незнакомого человека, который, постанывая, с трудом взобрался на огражденную железными поручнями площадку. Его, заподозренного в попытке бежать, жестоко искусала науськанная оперативниками овчарка.
Дрезина, набрав скорость, мчалась по рельсам, в темноте по обе стороны дороги мелькали силуэты высоких елей, плотной стеной обложивших дорогу. Ветер свистел в ушах, тело сжималось от пронизывающего холода. Стоя на узкой площадке, я окоченевшими в драных брезентовых рукавицах руками цеплялся за холодные металлические поручни. Казалось, что вот-вот я не выдержу и сорвусь вниз, в глухую темень на смерзшуюся землю — и конец. Дрезина мчалась по трассе, которую мы строили всю осень. Стук колес, свист ветра и стоны искусанного человека — все вместе сливалось в мрачную зловещую симфонию. Позади оставался первый этап моего жития на Севере. Было это 22 ноября 37-го года, в день моего рождения. Впереди маячила неизвестность — предстояло еще многое-многое.
Источник: Рубанович Виктор. Адрес – лагпункт Адак: автобиографическая проза. М.: Возвращение, 2011. с. 50-60. (Тираж 2000 экз.)