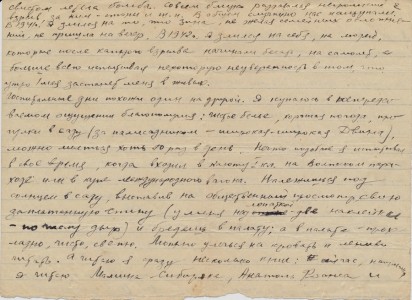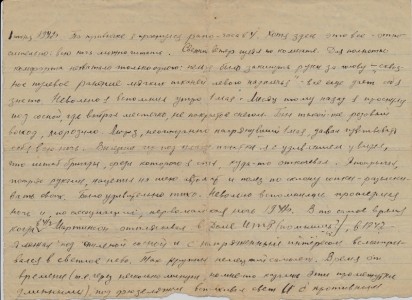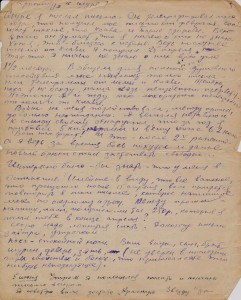Хочу дожить до конца войны
1 июня 1942 г.
По привычке я проснулся рано – часа в 4. Хотя здесь это все относительно: всю ночь можно читать. Свежий ветер гулял по комнате. Для полноты комфорта не хватало одного: нельзя было закинуть руки за голову – «сквозное пулевое ранение мягких тканей левого надплечья» — все еще дает о себе знать. Невольно я вспомнил утро 1 мая – месяц тому назад я проснулся под сосной, где выбрал местечко, не покрытое снегом. Был такой же розовый восход, морозило. Мороз, неожиданно нагрянувший 1 мая, давал чувствовать себя всю ночь. Вылезши из-под плащ-палатки я с удивлением увидел, что штаб бригады, среди которого я спал, куда-то откочевал. Я попрыгал, потряс руками, нацепил на шею автомат и полез по склону сопки – разыскивать своих. Было удивительно тихо. Невольно вспомнилась прошедшая ночь и, по ассоциации, первомайская ночь 1941 г.. В то самое время, когда Мартинсон отплясывал в доме ИТР, в 1942 г я лежал под спиленной сосной и с напряженным интересом всматривался в светлое небо. Там кружил немецкий самолет. Время от времени (через несколько минут, но мне-то казались эти промежутки длинными) под фюзеляжем вспыхивал свет и с противным свистом летела бомба. Совсем близко раздавался негромкий взрыв, за ним – стоны и т.п. В общем, случайно нас нащупали. В 1941 г. я злился на то, что Зина, не желая семейных осложнений, не пришла на вечер. В 1942 г. я злился на себя, на людей, которые после каждого взрыва начинали бегать, на самолет, а больше всего испытывал некоторую неуверенность в том, что утро 1 мая застанет меня в живых.
Госпитальные дни похожи один на другой. Я купаюсь в непередаваемом ощущении благополучия: чистое белье, хорошая погода, прогулки в саду (за палисадником широкая-широкая Двина), можно мыться хоть 10 раз в день. Нечто подобное я испытывал в свое время, когда входил в каюту I класса на волжском пароходе или в купе международного вагона. Належишься под солнцем в саду, выставив на общественный просмотр свою заплатанную спину (у меня над лопаткой две наклейки – по числу дыр) и бредешь в палату; а в палате – прохладно, чисто, свежо. Можно улечься на кровать и лениво читать. А читаю я сразу несколько книг: сейчас, например я читаю Мамина-Сибиряка, Анатоль Франса и еще «Историк – марксист» — статью об абсолютизме в политике Генриха IV (этого короля я еще по Дюма люблю). Такой винегрет и ненасытность в чтении понятны. Ведь я 5 месяцев ничего не читал, кроме газет. Я хватаюсь за каждую книгу, так – же как за всякую возможность побыть на воздухе голым: я с половины января спал не раздеваясь, а последние 2 ½ мес. – даже не разуваясь.
Подоплека всех этих ощущений в самой простой радости: радуюсь тому, что я живу, а не догниваю в каком-нибудь карельском болоте. Теперь я ожил и неохотно вспоминаю пережитое.
В двух словах: я оказался с небольшой группой прижатым к озеру, на полянке, окруженной со всех сторон. К концу лежанья и патроны были на исходе и руки и ноги совсем закоченели (они оказались потом немного обмороженными). И никаких перспектив. Одна-то была бесспорная перспектива: с последним патроном отправиться в неизвестное и очень темное пространство – к праотцам. Кое-кто у нас так и поступил. Да и я был к этому готов. К тому же половина из нас была ранена с самого утра.
Ну, в общем, мы, в конце концов, соединились со своими. Вот теперь я пожинаю плоды своей «удачи». Впрочем, вряд ли и в третий раз мне повезет, и я отделаюсь раной, а не головой.
Ну, что об этом говорить…
Получил телеграмму от Левы: очень сердечно, но смешно: «жму мужественную руку». Я много смеялся и никак не мог понять – почему моя рука удостоилась такой чести. На фронте все значительно проще. И трудно сказать: чья именно рука мужественна. Нет, я навеки излечен от всяких преувеличений, а Лева еще этим страдает. Во всяком случае, я очень благодарен ему за сердечный привет.
Ну, вот и все. Как видишь, я вполне благополучен. Хотелось бы поскорее получить известие от Клавы и самой мамы. Целую тебя и Вадика.
(подпись)
P.S. Письмо посылаю Зиночке
4 июня 1942 г.
Давно я не чувствовал себя так хорошо, как сейчас в госпитале. Рана быстро заживает и беспокоит меня мало. Все последние дни стоит хорошая погода; распускается листва на деревьях, в саду зацвели лютики, незабудки и подснежники. Каждый день я гуляю часа 4-5, загораю, просто сижу на траве и ни о чем не думая гляжу на необъятную Двину (благо она протекает совсем близко – в 20 метрах). А как потом приятно нажарившись на солнце, вернуться в палату. Двери и окно широко открыты и вся наша небольшая комнатка (5 человек в ней) насквозь продувается свежим речным ветром. На тумбочке, покрытой чистой салфеткой уже лежит хлеб, а в стакане налито 50 гр непонятной жидкости, которую из-за запаха (но отнюдь не из-за цвета) мы снисходительно соглашаемся принимать за вино.
Выспавшись после обеда, чувствуешь истому, и некоторое время валяешься в кровати. В конце концов, когда подставишь в умывальнике голову под кран, дремота проходит и с легким сердцем спускаешься в сад. Опять – бездумное сиденье; ветер приятно холодит спину; по Двине снуют пароходики, совсем на горизонте зеленеет противоположный берег, у палисадника тайком идет товарообмен (махорка на водку)), босоногие ребятишки пробегают по пыльной набережной и так незаметно вечереет и приходит пора ужинать.. Какие-нибудь шефы присылают десяток активисток. Они трясут одеяла, приносят бумагу или пластинки, а иногда скромные подарки (пару пряничков или коржиков), сестры и няни разносят ужин, потом мы сторожим чайник с чаем, а потом – или кино или я устраиваюсь в зале на кресле и не то читаю, не то смотрю на вечернее небо. С чувством выполненного долга ложишься в постель и засыпаешь. Можно проснуться и в 12 и в час и в два – все равно можно читать книгу, ночи здесь нет.
Утром, часов в 6 прослушаешь известия и идешь на балкон греться на солнце и лениво смотреть на уличное движение.
Вам, может быть, смешно, что я так восторженно восхваляю все эти мелочи. А я – так прямо купаюсь в блаженстве. Ведь я с января спал не раздеваясь, а последние 2 ½ месяца даже не разувался. Так приятно сейчас мыться раз 10 в день, читать сразу по 2-3 книги, во время есть, ни о чем не думать, ни за что не отвечать. Те, кто помоложе – тем беспокойно: масса сестер, студенток, практиканток. А я никак не обращаю внимания на них. Стыдно сказать – я даже не так остро чувствую разлуку со своими. Вернее – я отгоняю мысли и воспоминания. Беда только в том, что во сне собой не распоряжаешься. И тогда видишь то Бориску, то квартиру в Сокольниках, то фабрику. И жаль расставаться с этими снами, а когда проснешься – так станет вдруг тоскливо и не понимаешь – для чего ты лежишь в этой маленькой чистой комнате…
Да, так вот. Пережив фронт, дожди, снег, грязь, смерть начинаешь радоваться самым прозаическим удобствам обстановки.
Я не могу еще подавить в себе эгоистической радости от того, что я живу. Не знаю, поймете ли вы меня. А это так просто: ложась спать я уверен в том, что и завтра вечером я точно также свернусь калачиком и закрою глаза. На фронте в бою вдруг подумаешь: «а может быть вот этот твой шаг – последний в твоей жизни?» Вот этих – то мыслей и нет сейчас. Очень, очень хорошо…
Вот я так ясно вспоминаю вечер 4 мая. Идет густой снег. Наскоро сложив шалаши мы наслаждаемся невиданным комфортом, сидим у костра. Это хорошо, что идет снег: мы далеко забрались в тыл и готовимся к самому решающему этапу операции. Когда стихает ветер, то можно услышать далекий шум моторов: это немцы и финны спешно вывозят имущество. Утром был бой. Теперь мы оторвались от противника и спокойны: ни один черт не нащупает нас в этой снежной сумятице.
Увы: ничто не вечно! Костры разбрасываются и мы опят бредем по болотам, перелезаем через упавшие стволы, прыгаем по кочкам, перебираемся по жердочкам через ручьи, подолгу стоим (и это — скверно: ведь ноги мокрые) и опять идем и идем.
Под утро мы останавливаемся надолго: нет сообщений от разведки. Кто ходит, кто прыгает, кто пренебрегая сыростью спит где-нибудь под сосной. Шум моторов слышен вполне отчетливо.
И в этот серый рассветный час совершается нечто непонятное. Представь себе, что вдруг на улице Горького появился бы боярин – в шубе, в шапке и пр. и пр. Это было бы не так удивительно, как то, что мы видим перед собой: какая-то личность в низко-надвинутой шапке, в расстегнутой шинели, под которой – грязная рваная рубаха, без ремня, без обмоток, без оружия. Все молчат: может быть это только снится? Нет, личность начинает говорить: «Я – двадцатого полка, шел по деревне (а в окрестностях наша ближайшая, недавно освобожденная, полусожженная деревня – километров за 20), собаки меня кусали…» Словом – какая-то удивительная чушь… Сумасшедший? Но откуда? Нет, это – шпион. Задержали, допросили: сознался. Сдался осенью в плен, возил «там» воду, а вот теперь его перебросили к нам.
Повели его в тыл. Конвой попал под обстрел. Конвоиры залегли и отстреливаются, а шпион бросился бежать к противнику. Недалеко пробежал: удачная очередь успокоила его нечистую совесть.
А сейчас я сижу в столовой, два патефона состязаются в палатах. Единственное, что мне мешает — это два приятеля, предающихся фронтовым воспоминаниям. Ох, эти мне воспоминания? Но убежать некуда.
Вся эта идиллия скоро кончится. Годовщину войны я, наверное, встречу на фронте. Получил телеграмму от Левы. Почему молчит мама? Непонятно и беспокойно. Прислали телеграммы Вера и Шура. А Клава тоже молчит.
5 июня 1942 г.
Утром я поленился писать и кончаю письмо вечером.
Я советую вам достать «Красную звезду» за 22 или 23 мая (не помню точно), там есть статья «В Карельских лесах». В ней рассказано о боях, в которых я принимал участие.
Завтра я справлю юбилей своей раны. Ничего, юбилей не печальный. Он будет омрачен только если я и завтра не получу вестей от Клавы и мамы. В честь юбилея пошлю массу телеграмм; благо выиграл 30р. В очко. Когда-то, этот день был «подвыходным» нагруженный как верблюд беглым шагом торопился к своим на дачу. Даже и сейчас, когда я стал ко многому равнодушен отрадно вспомнить былые годы. В сущности, не так уж плохо жили. Правда, одно лето было испорчено историей с Шурой…
В общем – будем надеяться на лучшее. Очень бы хотелось дожить до конца войны, в этом надо сознаться. И хотя послевоенная жизнь будет совсем не похожа на довоенную, все же невредно было бы опять собраться в Сокольниках. Вот только ребята подрастут и некому будет возиться под столом, некого будет обманывать, наливая в рюмки чай вместо вина. Но я думаю, что с этим я как-нибудь примирюсь. Я бы примирился со многим (вплоть до руки или ноги), только бы посмотреть на ребят, когда они принесут свои первые отметки из школы.
Вижу, что размечтался и никак не выберусь из сантиментов. Кончаю.
На это письмо вы мне и не отвечайте, пока не осяду и не заведу постоянный адрес. По всем признакам попаду опять в какую-нибудь новую часть. Это не очень приятно: не люблю привыкать к людям. А впрочем, есть и хорошие стороны в новизне: забываются старые грехи, исчезают старые неприязни и не будешь видеть людей, которых не любишь. Целую всех самым жестоким образом.
Володя.
Открытка. Москва- 65 п\о, Большая Оленья улица д.21, кв. 11 Максимовой Марии Васильевне.
Максимов В.А. Сев. Ж Д разъезд Тиме п\я №25
Получила ли ты 400 р и 250 р, которые я посылал в апреле?
От Клавы получил открытку
17 июня 1942 г.
Вчера поздно вечером приехал в дом отдыха. Если бы не несметное количество комаров, то можно было бы жить совсем безоблачно. Но они-то, комары, не дают жить совсем. Представляю себе, что будет на фронте, где комаров должно быть больше.
Я чувствую себя изумительно. Вчера ночью после бани рассматривал себя в зеркало, и даже пожалел, что пропадает такой материал для романов, ничего не поделаешь.
Правда, я перед отъездом из госпиталя пытался очаровать одну симпатичную практикантку (и не хвастаясь скажу, что дело шло вперед, как в сапогах скороходах). Но, вспомнив о слове, прекратил авантюру. Так что теперь я являю собой благодарный материал только для комаров. И они широко мною пользуются. От ран (ведь дыр-то было две) остался только один струпик (там, где вышла пуля), да две рваных дырочки в гимнастерке. В первых числах июля буду в Беломорске, куда и следует писать. А лучше не пишите, потому что опоздает. Если только телеграмму с выражением сожаления, по поводу моего тридцатипятилетия.
Всех целую. Володя.
22 июня 42 г. (10 часов вечера)
Здравствуйте Максимовы, Прохорова и Гутман.
Очень хотелось бы посмотреть на вас – что вы сейчас делаете. Радио, передающее сплошь танцевальную музыку до известной степени нас соединяет: и у вас и у меня одни и те же мелодии.
Год тому назад в рупорах гремели боевые патриотические песни. Очень хорошо, что передается легкая музыка. Для нас, фронтовиков война стала бытом, должна стать бытом. Иначе ее не выдержать. Легкомысленные или лирически-грустные мелодии фокстротов и танго подтверждают, что и в моей работе бывают, могут быть перерывы, отдых, беспечные или чуть печальные минуты, когда принадлежишь только себе, своим воспоминаниям, близким (но таким далеким) людям.
До 1 января легкая музыка не передавалась. Не так уж плохо живем если из дорогой моей Москвы передают музыку, под которую танцуют, влюбляются, немного грустят.
Приятно вспоминать годовщины. Мне больше всего запомнилось из вечера 22 июня 1941 г: старуха в трамвае с громадным букетом белой сирени. Это было как бы последним приветом мирной нашей жизни. Мобилизация еще не была объявлена. Все были как будто еще прежними, невоенными и в тоже время каждый уже прощался с семьей, с работой, с самим собой. Белая сирень казалась уже ненужной, чуждой тому времени, всю тяжесть которого редко кто из нас предчувствовал.
Как сильно мы изменились! В сентябре мне дико было слушать комбата, который упрекнул красноармейца в том, что тот не добил раненого немца, которого нашли в деревне во время разведки (взять с собой его было нельзя). А сейчас – я бы и не моргнул, стреляя в него.
Опишу тебе свой сегодняшний день: около 8 утра я стал раздумывать просыпаться ли мне? Проснулся. Натянул брюки и презирая умывальную спустился под гору и побежал лесом к реке. Зарядка, прерываемая шлепками по спине, голове и прочим местам, которые осаждались комарами. Раздевшись и стоя на разбитом плоту около моста, я каждый раз раскаивался в том, что решил купаться. Вода ревет под мостом, она такая холодная, что больше 1-2 минут не выдерживаешь. Подгоняемый комарами и тщеславием (никто больше не купается) я прыгаю в воду. Она не доходит мне до пояса. Окунаюсь до шеи, судорожно поливаю водой грудь и спину и выскакиваю.
Завтрак уже идет. Прямо с речки влетаю в зал: Пшенная каша, масло, черный хлеб, малосладкий чай.
9 часов. С литровой бутылкой иду в небольшой фабричный поселок. За литр молока – полпачки махорки. Комары становятся все злее. А кругом — лес, птицы, заросли шиповника. Пахнет цветущим шиповником, сырой после ночного дождя землею, хвоей. В начале одиннадцатого читаю газеты в библиотеке. До обеда играю в шахматы. Мой партнер – молодой инженер, москвич. Я успеваю выиграть у него 5 партий: он играет еще хуже меня.
Обед: кислые щи, картошка с поджаренной солониной, стакан молока и на десерт – бутылка молока.
С распухшим животом я еще раз обыгрываю инженера и с трудом поднимаюсь на второй этаж спать.
Около пяти часов будит сестра, приглашая посмотреть «партбилет». Попадаю на 2-ую часть. После кино – доклад. Спасаюсь бегством на реку. С реки тоже спасаюсь бегством – несметная сила комаров. Около санатория покупаю у мужичка 8 шт. яиц за махорку (1 пачка). За махорку здесь покупают все. Рыболовы, отчаявшись уловить хариуса или форель, покупают рыбу, я молоко и яйца. Предлагали даже часы, неплохие за 15 пачек (за 6 рублей!).
За санаторией начинается стрельба. Это группа отъезжающих прощается с нами. Какие-то энтузиасты бросают пару гранат. Я высказываю пожелание, чтобы отдыхающие не привозили с собой минометов и пушек.
Отчаявшийся в жизни инженер усаживает меня за шахматы. Еще один раз он терпит поражение.
Ужин: неважный рыбный суп, котлета из пшена, масло, чай.
После ужина – шахматы с солидным противником. Две проиграл, одну выиграл и сел писать письмо. Двенадцатый час; светло; пора спать.
23 июня 1942 г.
Сегодня среди вновь прибывших встретил командира, с которым лежал в одной палате в Вологде. Человек – с ноября находился на фронте и ни разу не был ранен. Удивительно ему повезло. Впрочем, так говорить можно будет только о тех, кто переживет войну.
Ты, мама, расстроилась из-за моих царапин. Чтобы сказала ты, если бы я был ранен, как один отдыхающий. Он ранен в первый раз, но 29-ю ранами! Руки, ноги, голова, спина. И ни одной поврежденной кости. И раны большие по площади. Самое удивительное – то, что его не убило. А в следующий раз этот счастливец будет убит револьверной пулей.
Как бы там ни было я так отдыхаю, как не отдыхал с «Жемчужины» (на пароходе). Самое важное для меня, это возможность быть одному, необязательность разговаривать. Я подумал сегодня, что вот уже месяца два, как я не сердился. Смешно, но факт!
Послал Борису поздравительную телеграмму. Клава писала (прямо какая-то мистика в том, что она пишет), что 6 мая (она отправила мне письмо в этот день, поэтому запомнила число) Борька жаловался на какие-то предчувствия: «такая тоска, как будто у нас кто-то умер…». Я был и растроган, и расстроен. В этот день, правда, я много о нем думал.
Собственно говоря, надо не только ему послать поздравление. Следовало бы и тебе выразить еще раз благодарность от его и нашего с Клавой имени. Ведь если бы не ты и не твои заботы, нам в первые дни, да и в 1936 г. пришлось бы туго.
Вообще, мы все перед тобой в неоплатном долгу. Только свойственная всем нам смешная, угловатая застенчивость мешала высказать это в лицо. А в особенности благодарен тебе. Ведь без тебя мне бы и ВУЗ не кончить: ты и держать экзамен уговорила и первые два года по существу содержала меня. У меня и до сих пор лежат где-то в бумагах твои записочки, в которых ты пишешь, где стоят котлеты и т.п. Они всегда ждали меня на столе, когда я возвращался из института или с «собрания» 1927-29 г.
Да и за последний день, когда я уходил в армию, я особенно благодарю тебя, за то, что ты понимала какими подчас извилистыми путями бредет сердце человека. И твое отношение к неожиданным явлениям облегчило мое порядком запутавшееся сознание. Впрочем, я об этом уже писал. Ну, не беда, если и повторюсь еще раз. Кстати, не получала ли ты из Свердловска писем?
Кончаю. Как видите, чувствую себя помещиком правда уже немолодым: уже не тянет ходить на руках или лазать по канату. Равным образом и сестры не волнуют воображение (возможно, что это объясняется их более чем средней привлекательностью). В общем, очень хорошо мне живется. Всех крепко целую: тебя, бабушку, Толю, Леву; не знаю, прилично ли целовать невесток? Впрочем – все для фронта! Целую и их. Письмо пока не пиши.
Володя.
22 августа 1942 г.
На меня сегодня напала тоска – давно неиспытанное состояние. Гложет целый вечер, без всяких причин и поводов. Сейчас уже темнеет (от чего я отвык, ведь с мая месяца мне не приходилось видеть звездного неба) и я решил написать тебе письмо. Как всякая попытка с кем-нибудь поболтать (к сожалению совершенно невозможная для меня в этих условиях); письма помогают в таких странных случаях, когда на человека нападает тоска.
Ты пишешь о моих интересных письмах маме. Боюсь, что и в профильтрованной редакции они оказывают неважное действие на маму. Видишь ли, первые дни в госпитале я был несколько отклонившимся от нормы субъектом. С одной стороны – откровенно эгоистическая радость. Я жив, я не валяюсь где-нибудь в снежном болоте. И в то же время – тяжкие воспоминания, совсем свежее, навсегда незабываемое ощущение человека, около которого совсем близко проходит смерть. Было два таких веселеньких момента, которые не поддаются изложению. Смешные мысли в человеке: «вот и конец, вот и расплата за сытую жизнь, за высокие оклады, за наслаждение закатами, живописью, за романы с девочками разной степени смазливости» — так, обстояло, насколько я помню, дело. С особенной горечью думалось о том, что никогда не увижу я Борьку, Клаву, многочисленных Максимовых, Зину (ты, наверное, в курсе дела? Очень тебя прошу, напиши, как отзывалась мама об этом «чрезвычайном происшествии?) Видишь и до сих пор существует остаточная реакция на эпизод 6 мая. Впрочем, повторения возможны в таком масштабе, что пора освободить память для новых впечатлений.
(написано сбоку первого листа мелким шрифтом: Самое главное – успокаивай маму, скажи ей, что я стал хитрый и голову сберегу)
Ну-с, вот я и не сдержался и немного рассказал маме, смягчив резкости жизни. Очень хотелось кому-нибудь пожаловаться. Несколько неожиданной была фраза Веры: «Левка мой в восторге трогательном от твоих художественных описаний». Еще больше меня удивила Левина экспансивная телеграмма: «Жму мужественную руку». Чисто глубоко-тыловая переоценка?
Итак, моя изящная невестка стала грузчицей? Какие трансформации принесла война! Во всяком случае, ей не надо беспокоиться за верность мужа. Как будто, он не усвоил обычаев ее самого старшего доверия…
Теперь о моей обстановке. Имей в виду, что малая артиллерия, к которой я имею сейчас честь принадлежать, несет наименьшие потери. Минометы располагаются за передним краем, в 500 метрах, а штаб – обычно еще дальше. На таком расстоянии не страшен огонь автоматов и, почти, — винтовок. Нас ищут артиллерия и минометы противника. Но мы – непоседливы, кочуем, как только нас начинают накрывать. Все это, пока в теории, так как в минбате я в боях еще не был. Ко всему этому надо прибавить, что нас сейчас не пускают в бой, а держат впрок. Вот это все и объясни маме, чтобы она, сейчас, по крайней мере, была совершенно за меня спокойна. Кроме того, сейчас я наверняка не буду участником диверсантских рейдов, к чему предназначались лыжники. Все это повышает шансы на вдыхание дыма отечества, который, как установил еще Грибоедов – нам так сладок и приятен.
(написано сбоку второго листа мелким шрифтом: где вы достаете портвейн? Я привык и к спирту)
Сегодня у меня день безделья. Батальон ушел в леса строить оборону. Несложными операциями я достиг того, что остался дома. Днем я писал тезисы к докладу: «Уроки истории». Приятно собирать в закоулках памяти чудом уцелевшие остатки знаний. Время от времени обходил батальон, цукал дневальных за непротертые минометы. Имей в виду, что я – большой начальник в своей малой деревне. Сейчас гудит печурка. В крохотное оконце заглядывает чахлая ночь приполярья, в обрезке консервной банки растоплен мой командирский паек – сливочное масло, горит фитиль из ваты. Все выглядит вполне комфортабельно. После кружки чаю и на третьей странице письма тоска утихла. Да не все ли равно, что будет завтра?
(написано сбоку треьего листа мелким шрифтом: Переход в Москву приветствую, если он удастся)
23 августа 1942 г.
Она была какой-то неотъемлемой частью довоенной жизни. Также как хорошо я знал, что в выходной зимний день я поеду с Борькой на лыжах, что по вечерам в воскресенье я найду маму за чайным столом, с бабушкой. Я знал, что приехав к Вере, я часто застану Таню, с папиросой, стоящую где-нибудь в кухне. Ее имя навсегда останется связанным с 38-39, когда Шура был не у нас. И мне очень грустно от мысли, что я больше не увижу эту очень простую женщину. Борька тоже пожалеет. Она присылала ему книги. Кстати, сегодня я видел во сне Борика, Клаву и мать. Во сне очень хотелось прослезиться, но еще больше было стыдно и внезапно я проснулся. От огорчения вышел из землянки. От мха шел острый холодок, было сыро и впервые за лето я увидел бледные звезды. Я понял, что не за горами осень, а Борька и Москва – это только короткие сны: и лучше, если их не видишь. Письмо вышло ужас, каким сентиментальным. А год тому назад я провел свой последний вольный день.
Все. Привет невестке – доннору и вахтеру.
(написано сбоку четвертого листа мелким шрифтом: Не мешало — бы и ей черкнуть пару строк, хотя бы о том – какие прически сейчас носят дамы)
29 августа 1942 г.
Моя дорогая мама! Сегодня получил твое письмо с вложенными из Свердловска письмами. Ну, зачем давать волю плохим настроениям? Все твое потомство живо и здорово, а наша разлука – временна. Недалеко уж то время, когда мы свидимся. Вот переедет в Москву Борис Максимов, затем, смотришь – Вадим Гутман. Оба приедут не одни, а с мамами. Переберется Тоша и будет потрошить мышей в культурных городских условиях. Кончится война и самый старший из сыновей тоже приедет, украшенный малиновыми нашивками, рубцы от ран к тому времени станут незаметными и нечем будет даже хвастаться тщеславному (что греха таить!) старшему Максимову. Приедет домашний полярник с Валей. А потом – целый табор с Камчатки. Так что будет и тесно и шумно и очень, очень приятно. Помнишь последнюю главу из «Война и мир». К Ростову приезжает Пьер с Наташей; прошли грозные годы, люди опять мирно зажили, растят ребят, и только в памяти остались и разоренье Москвы и мертвые, и французы…
Так и у нас будет, мамочка! Вчера у нас было большое ученье (не удивляйся, армия учится даже на передовой, а мы – ведь от нее далеко: в 10-15 км), мы всю ночь таскались по здешним окаянным болотам. Меланхолически обдумывая какую именно ногу вытаскивать из трясины и успевая, в тоже время любоваться черными остроконечными елями, да облитыми лунным светом березками, я по обыкновению мечтал. Большей частью я мечтаю о том, как приезжаю в Москву. Я никак не могу выбрать из двух редакций: по первой я приезжаю в воскресенье и застаю у тебя за обедом Гутманов и Клаву с Борькой, а по второй я, прямо с вокзала еду к тебе в цейхгауз, в больницу. В общем, все варианты приемлемы. Любой из них вознаградит меня за долгие месяцы, которые пройдут с холодного сентябрьского утра, когда ты провожала меня на крыльце. Думали ли мы тогда, что всего через неделю я попаду под бомбежку, а через 10 дней поеду в отдельном купе в Вологду, подозрительно поглядывая на ногу: не собирается ли она заболеть? В одном я ошибся: я не ждал, что протяну больше месяца. Но с такими ошибками легко мирятся…
Живем мы ни шатко ни валко. Начинается осень. В 9 часов вечера уже темнеет. Это – так непривычно: звезды, рассвет в 5-ом часу. И, признаться я так привык к круглосуточному дню, что неприятно действует темнота.
По вечерам мы уже зажигаем ватную светильню в обрезке консервной банки
31 августа 1942 г.
А сегодня утром – сильный заморозок. Болотный мох побелел и хрустит под ногами. Краснеет осина, желтеет береза и прочее и прочее. Я построил для штаба такую землянку, что у нас пока что нельзя топить печку: стоит затопить и все начинают охать: стоит невыносимая жара.
О Вере ты не беспокойся, я посылаю ей на днях 500 р. (у меня оставался резерв «диких» денег), а в дальнейшем буду посылать по 300 руб. (надо ведь и тебе и Клаве послать). Сообщи мне адрес Левы, надо ему написать, а то настроение у него плохое наверное; Мама ты пишешь, что у меня все разграбили; но что-нибудь там осталось? Кушетка, шкаф, книги (если Борькины сохранились – перевезите к себе), стол? Неужели и эту немудрую мебель унесли? Как только через дверь пролезли? Вообще-то я об этом не волнуюсь и не думаю, а спрашиваю из любопытства.
Целую всех вас, а тебя — отдельно. Володя.
Орфография и знаки препинания рукописи в основном сохранены
Письма и фотография любезно предоставлены из семейного архива для публикации.
Материал для публикации на портале www.world-war.ru
передал внук Кирилл Владимирович Родионов